Михаил Михайлович Пришвин.
У стен града невидимого
Михаил Михайлович Пришвин.
У стен града невидимого
(Светлое озеро)
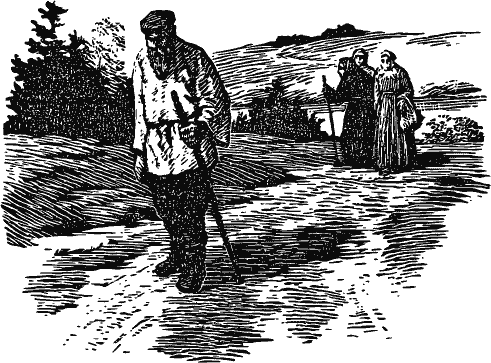
Глава I. Черный сад
Глава I. Черный сад
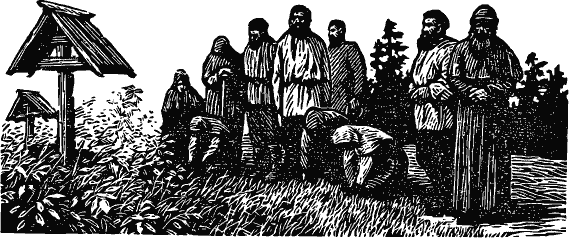
Глава II. Година Варнавы
Глава II. Година Варнавы
Глава III. Крест в лесу
Глава III. Крест в лесу
