Побег
Побег
Повесть Альбера Лондра
Перевод М. Раппопорта
Иллюстрации П. Королева
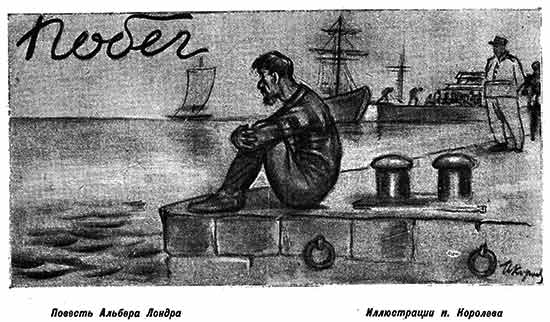
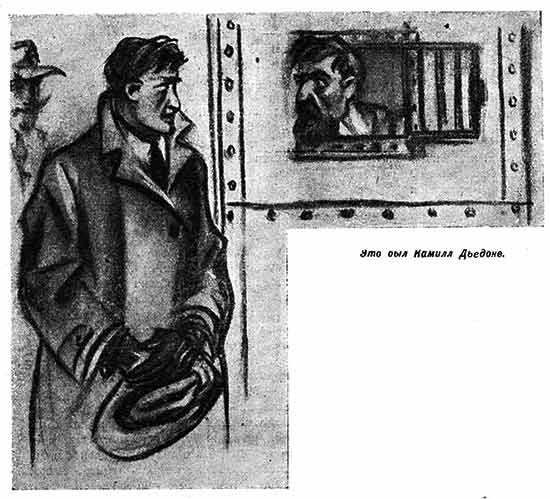
* * *
‘Что вы делали в шайке Боно?’
‘Что вы делали в шайке Боно?’
‘Прекрасная дама’
‘Прекрасная дама’
У китайца
У китайца
Мой спутник
Мой спутник
Отъезд
Отъезд
Мели
Мели
