Михаил Пришвин.
Заворошка
Михаил Пришвин.
Заворошка
Отклики жизни
Новая Земля
Новая Земля
Спас-Чекряк
Спас-Чекряк
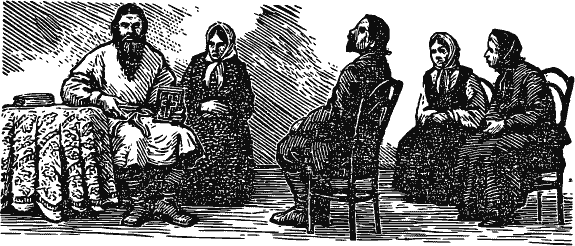
* * *
* * *
* * *
Примечания
Примечания
———————————————————————————-
Михаил Пришвин.
Заворошка
Отклики жизни
Новая Земля
Спас-Чекряк
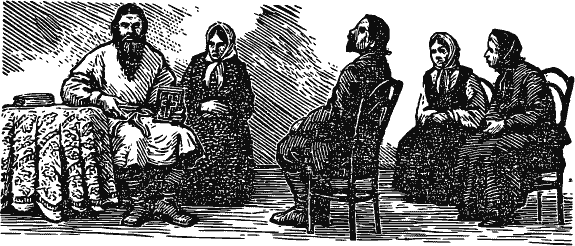
* * *
* * *
* * *
Примечания
———————————————————————————-