Михаил Пришвин.
>Заворошка
Михаил Пришвин.
>Заворошка
Отклики жизни
Новые места
Новые места
Адам и Ева
Адам и Ева
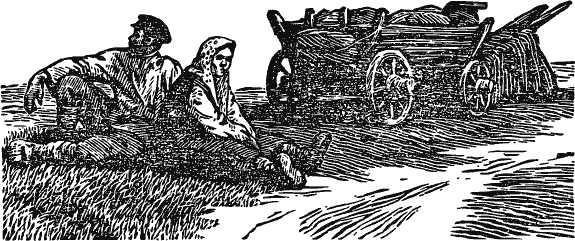
I. Вечная пара
1
Ехали легкими почвами, светлыми. Целый день мелькали в окне скромные рощи у скромных ручьев, стада белых гусей на лугах, тихие заводи и поруби с последними склоненными березками. И еще ехали целый день по той же равнине. Тянулись тяжелые, жирные, черные нивы. Еще на день хватило размашистого Поволжья и прославленных Аксаковым уфимских краев. Тут уже первые уральские сопки и, наконец, самый Урал, весь Урал, как седая бровь старика.
На легких почвах — легкие копны, на тяжелых — тяжелые, солидные, в тринадцать крестцов. Просторно думается: в больших пространствах есть своя поэзия. Вспоминается Ермак Тимофеевич.
И еще много таких дней впереди, и все будет та же страна, и до конца ее я не доеду.
На Урале докашивают. Сверкает смелая привольная коса впереди, а позади смиренная женщина склонилась над скошенным хлебом. Он — косит. Она — вяжет. Вечная пара, покорно выполняющая заповедь бога: в поте лица своего добывай хлеб.
Она красива, эта пара людей, на этом поле, окруженном угрюмыми, однотонными, но выразительными старыми-старыми уральскими сопками.
И вдруг конец библейскому пейзажу. Окончена лента кинематографа.
Перед моими глазами — красный занавес с надписью: ‘Теплушка для людей’. В маленькое окошко где-то высоко высунулась всклокоченная, бородатая голова и другая, в ситцевом платке, глядят, как лошади, из темной маточной на светлый двор. Лента кинематографа окончена. Занавес закрыт. В уродливое отверстие глядит та же самая вечная пара: Адам и Ева.
Кто-то спрашивает:
— Обратные?
— Нет, туда. До осени все туда. С осени до масленицы назад. С масленицы опять вперед. Назад идет, лохмотьями трясет, вшей бьет, вперед…
Я вижу в приоткрытую дверь теплушки, как Ева что-то ищет в склоненной к ней на колени голове Адама…
Занавес опять открывается: Адам и Ева, прекрасные, косят. И закрывается: возле рельсов в ожидании ‘теплушки’ лежат грязные тела с грязными мешками. С отвращением глядят на них проезжающие, с отвращением, недружелюбно говорит о них сибиряк, и кондуктор, ругаясь, цепляет новыми сапогами за старые лохмотья.
Занавес то открывается, то закрывается. Когда он закроется, я думаю: ‘Почему эти же люди так красивы там, когда косят, и почему отвратительны здесь, в теплушках, в обстановке этого, казалось бы, такого красивого движения на новые места, в страну обетованную?’
Я объясняю себе так: те Адам и Ева живут в лад природы, они не начинают жизнь от себя, они повторяют вечные круги природы, став прекрасными от вечного повторения, от вечного напоминания о себе. А здесь, в теплушках, самое-то самое голое начало задуманного человеческого быта. Этих Адама и Еву бог только что выгнал из рая.
2
Я ехал в глубину среднеазиатских заиртышских степей, к пастухам-кочевникам. Я рисовал в своем воображении бесчисленные табуны, стада, степных всадников, перегоняющих их с места на место, старался представить себе в действительности психологию людей того мира, который для нас, горожан, существует как сказка. Мои глаза были прямо обращены туда, по краюшкам, я решил наблюдать и вечную пару Адама и Евы.
Весной в самом сердце России, в черноземных губерниях, я наблюдал, как в народе зарождаются мечты о новых местах. Там, в этой чудесной стране: картошка — двугривенный, хлеб — четвертак, мясо — три копейки, лес — даром бери. В таком смешном, съедобном стиле рисуют себе синюю птицу и страну обетованную люди земли, оторванные от нее, вот-вот только ставшие мечтателями и поэтами по необходимости.
Весною в родном краю я сочувствовал этим забавным и несчастным мечтателям, напрасно добивающимся ‘билета на новые места’ в землеустроительной комиссии.
Теперь, осенью, я наблюдаю осуществление этой мечты. Мне кажется, если я увижу край, населенный просто сытыми людьми и здоровыми, я буду доволен.
Осенью переселенцы, убрав хлеб, едут на новые места. Я видел, как катились эти теплушки с людьми. Теперь вижу их на берегу Иртыша.
— Груз хороший, — говорит мне капитан, принимая от чиновника переселенцев, — славный груз: не подмокнет, не сгорит.
Чиновник рассказывает мне, как обширно, как хаотично это движение и как это все хорошо устроится теперь, после проезда переселенческого начальника, самого-самого главного. Везде назначены ревизоры. Приняты самые строгие меры относительно взяточничества, — бича переселенческого движения. Он показывает мне большой самовар с кипяченой водой с надписью: ‘Не пейте сырой воды’. Показывает новый барак и больницу. Читает свое собственное стихотворение о переселенцах. Он либерален.
— Прослужит год-два и уедет, — говорит мне мудрый, видавший виды капитан. — У нас чиновники не живут: сделают карьеру — и лататы. Остаются взяточники. Без этого тут нельзя, в Сибири.
И какой-то почтенный сибиряк развивает тут же свои оригинальные, парадоксальные мысли: русский народ неземледельческий, о земледелии всё славянофилы раздули и народники, немецкие колонисты живут хорошо, русские — плохо, немцы — культурные, русские — некультурные, земледелие от культуры, значит, русский народ неземледельческий.
— Сами увидите! — напутствует он меня.
Пароход наш прекрасный, удобный. Своды Иртыша там и тут поднимаются стаи гусей, уток, лебедей, беркуты парят над степью или, большие, сутулые, дремлют на песчаных отмелях. Природа однообразная и угрюмая, но видно, что нетронутая и потому прекрасная. Спуститься к переселенцам вниз можно, только принудив себя.
Тут представители всех концов России, как кули, сложены на полу, пьяный парень с гармоникой прямо идет по телам.
— Анчутка! Анчутка! — шевелятся просыпающиеся женщины.
Таврические, черниговские, полтавские, рязанские, оренбургские…
— А есть орловские?
— Нету.
— Ка-ак нету! Мы — орловские…
Полтавские рядом с орловскими, а не знают о них ничего. То — кацапы, а эти — хохлы. И многие так, лежа друг возле друга, ничего не знают: кто он и откуда. Держатся семьями, отдельно, все со своими иногда затаенными планами. И только с внешней стороны кажется, что вся эта серая масса, объединенная одним горем, движется в одну и ту же страну обетованную.
Семья плотников. Едут целое лето. Приедут в город, заработают денег — и дальше. Их четверо, заработали много. На месте припишутся к знакомому старожильскому обществу. Вид у них бодрый, веселый.
Бочкари и овчинники — солидные люди, будущие сибиряки, деловитые, но угрюмые и строптивые.
Но эти самостоятельные люди, независимые от правительственной помощи, иногда попавшие просто случайно в общую массу, немногие. Большинство — серый, обиженный люд. Едут зря, ‘на волю господню’. Все это — живая иллюстрация к общему закону переселения: лучшие переселенцы, это — независимые от правительства. Вся остальная масса инертна… Я вспоминаю спор двух чиновников: ‘Половина из них просто бродяги’, — говорит один. ‘Не половина, а одна треть’, — оспаривал другой.
Биографии однообразны, неинтересны. И только, что вот едут они куда-то на волю божию, на риск, куда-то на Алтай, в ‘золотые горы’, привлекает к ним участие.
Обгорелая лопата под ногами… Вспоминаю ее… Где-то видел: в Самаре, в Челябинске, в Омске? Кажется, в Омске. Мы по поводу ее долго рассуждали с переселенческим чиновником: во что обходится эта обгорелая лопата, которой сажают в печь пироги, если привезти ее из Таврической губернии на Алтай? Сколько новых лопат можно купить на эти деньги? А старый хомут? Кочерга? Связка лучинок, чтобы потом на новых местах согреть самовар? Сколько тут из-за этих лучинок, наверно, было ссор с мужьями? И вот опять эта вечная пара: хохол и хохлушка у кормы на фоне желтой сибирской степи. Он говорит с товарищами о хуторе на берегу Иртыша. А она грустно смотрит в пустую степь без деревьев, без яблонь и вишен, без мазанок белых с плетнями, без церквей, желтую, сухую, дочиста выжженную солнцем, с сухой низенькой щеткой вместо травы, и говорит:
— Як бы трошка землицы в Полтаве, так на що б я в ту бисову землю поехала!
3
Переселенцы уплывают вверх по Иртышу. Говорят, им будет там впереди хорошо: в долинах Алтая будто бы есть чудесные земли, почвы каштановые и плодороднейшие лёссы.
Со мной в этот степной городок Павлодар вышли немногие. Да я тут же и забыл про них, охваченный новыми впечатлениями от этого сухого края.
Знойное лето спалило листья на немногих деревьях. Еще в июле, как позднею осенью, они попадали. Ручьи, реки, колодцы, — все высохло. Пастуху это все — не беда, земледельцу — конец. Мусульманский киргизский бог прогневался на православного: многие переселенцы бежали обратно в Россию.
Обратные переселенцы, о которых столько везде в Сибири говорят, которые служат таким очевидным доказательством дурной постановки переселенческого дела, — что-то страшное, если подумать о том, чего стоит им добраться сюда. Какие они, эти степные неудачники? Правда ли все это говорят?..
Городок, куда я вышел с парохода, чтобы отправиться в глубину заиртышских степей, — весь сквозной: глаз бежит по улице в степь и по пути захватывает верблюжью голову, белую чалму, малахай, многоцветный халат и широкие, с гордостью носимые киргизами на виду ситцевые панталоны.
Городок сообщается со степью, с той стороной Иртыша, посредством ‘самолета’. Это — плот с колесами, как у парохода, но приводимый в движение лошадьми.
Ветер — боковой. Самолет не смеет отчалить. Мы стоим у берега с раннего утра и до обеда. Вокруг нас скопляются верблюды, бараны, коровы. Сзади напирают новые стада. Быки нам давят бока своими рогами, лошади стегают хвостами по киргизским лицам, желтым, как спелые дыни. И хохот, и дикие крики, и забавное стеганье друг друга нагайками, и мудрая беседа почтенных людей на верблюжьих горбах — все это было так ново мне и странно, — в глубине сердца знакомо.
— Тпр… Тпр…
— Как, и у вас ‘тпру’? — спрашиваю я переводчика.
— Да, и у нас ‘тпру’, — отвечает он.
Вот оно, это знакомое, догадываюсь я: когда-то эти степные всадники были к нам близехонько. Их острые глазки, их насмешливый вид, болтовня и вся эта хаотическая суетня и многое, что указывается чутьем, но еще не улавливается сознанием, — все это и у нас есть и только прикрыто чем-то другим.
Плот трогается. Корова падает в воду. Доски трещат.
— Ай-ай-ай. Джамантой!
— Ха-ха-ха! Верблюд падает.
— Господи! — шепчут прижатые к рулю Адам и Ева. — О, господи!
Плот кружится. Все, кто близко, лупят нагайками изморенных, вертящих колесо лошадей. И хохот, и крик. Животные падают, плывут. И так странно, что все еще эта громадная масса животных не разломит плот, что вся эта визжащая, хохочущая и кричащая бесформенная масса не рассыплется. Несмотря на всю эту нелепицу, мы едем. Одно утешение: может быть, это все с непривычки так кажется опасным, а на самом деле так оно и быть должно?
Кошка прыгнула с верблюда на лошадь, с лошади — к нам.
— Брысь!
— Как, и у вас ‘брысь’?
— Да, и у нас тоже ‘брысь’.
— Во-от что!
— Вот что.
И чем ближе подплывают к нам юрты с той стороны Иртыша и новые стада, чем страшнее становится, что эти стада с той стороны непременно же двинутся на нас, когда мы причалим, и, быть может, столкнут нас в воду, чем сильнее подпирают в бока бычачьи и коровьи рога и ближе дышит сзади верблюд, тем все понятнее и понятнее то, что-то знакомое.
Да вот же оно: это — та же Россия, это — она, от нее не уедешь никуда, это — тоже свое, близкое.
Бесформенность, хаос и все-таки лик.
Вот-вот потонем.
Но плот все плывет.
4
Мы едем сутки в степи, едем другие, и все оно такое же и такое сухое желтое море: как снег, выступает соль на дорогу, озера мертвые, соленые, со страшными фиолетовыми краями
Жутко: потонуть нельзя в этом сухом океане, но во если бы пешком, так все равно пропадешь, и думать об это так же страшно, как иногда глядеть в глубину с парохода Хорошо, что лошадь трусит.
Все знают тут единственное дерево. Возле него ручей размыл солонец, оттого оно и выросло. Тут останавливаются для ночевки все караваны. Мы тоже останавливаемся, собираем кизяк, разводим огонь, недалеко от нас киргизы тоже разводят огонь. Месяц всходит. Вырисовываются бронзовые профили сартов и киргизов, и…
— А этот бородатый, там, у огня, с женщиной?
— Переселенцы.
Адам и Ева, — радостно узнаю я земляков.
— Вы — обратные?
— Нет, едем пошукать: нет ли тут еще где земли?
— Плохо вам?
— Плохо. Глаза потеряли плакавши. Вот…
Показывают зеленый хлеб, похожий на куски малахита. Женщины думают, страшнее этого зрелища нет ничего: и скисает, и хлюпает.
— Куда вы едете?
— В Семирек (Семиречье), там хлеба много.
— Не ездите, — говорю я, — не ездите.
Я уже говорил с обратными из Семиречья. Они едут оттуда потому, что там дико, там хлеба много, хлеб нипочем, но жить нельзя: человек из России хоть и простой, но не первобытный человек и не фантастический Робинзон Крузо. Он теперь уже не может жить на одном хлебе и бежит из диких мест. Я сам видел их, говорил с ними: там хлеб — двадцать копеек за пуд, здесь — один рубль семьдесят пять копеек, и все-таки они бегут оттуда сюда.
— Не ездите, — говорю я, — поезжайте лучше в Россию, — и рассказываю, что сам видел обратных из Семиречья.
— Так то кацапы, — отвечают хохлы, — им бы только деньги забрать: заберут — и тикать. Мы пошукаем.
Поднимаются караваны, скрипят и визжат арбы, будто сотни собак сцепились, плывут высокие переселенческие фуры по глухой, ровной, степной дороге. Соленые озера глядят глазами пустыни. Полудикие всадники…
Я сам, своими глазами, видел, как проехали два переселенческих чиновника, говорят, где-то тут близко будут землю нарезать. Видел, как они скрылись по боковой кочевой дороге, и спрашиваю себя: как же жить тут? Вот эта солончаковая земля, прикрытая галькой, желтая щетка на ней, стелющаяся полночь над ней…
Сибирь — богатейшая страна. Сибирь — необъятное пространство. Сибирь — золотое дно, страна обетованная. И вот эта степь — пустыня с мертвыми солеными озерами. Этот край, где нужно брать с собой воду, чтобы не пить из ям, где тонут степные зайцы и крысы, где вода среди лета пересыхает и колодцы становятся вдруг солеными.
Зачем же здесь Адам и Ева? Да еще кому-то они мешают: кругом стоном стоят жалобы на этих непрошеных гостей.
Трудно на первых порах утомленному переездами в триста — четыреста верст во всем этом сразу разобраться.
Пока я решаю странный вопрос так: богу наскучили жалобы вконец испорченного человека. Он сотворил его вновь и пустил опять в рай. И опять согрешил человек, и опять был изгнан из рая обрабатывать землю. Но бог забыл про малоземелье, что теперь земля уже вся занята. И вот бродят теперь Адам и Ева, ищут места, где бы лучше и скорее выполнить заповедь божию. Бродят по тундрам, тайгам и пустыням. Но и тут земля занята.
II. Самодуровцы
Движение, движение… Когда же наконец водворение Адама и Евы? Здесь уже Средняя Азия, недалеко отсюда уже ‘исторические ворота народов’. Места пустынные, с большими низкими звездами. Самое подходящее место для изучения жизни первых людей после грехопадения.
— Тут они, — говорят мне, — тут где-то недалеко, за той горой, в Закопанном Колодце.
Бас-Кудук, значит ‘Закопанный Колодец’, — название местности.
Киргизы, по мнению некоторых ученых, своим творчеством напоминают греков при Гомере: они воспринимают внешний мир непосредственно и воспевают его таким, как воспринимают. На это отчасти указывают уже одни названия мест. Потеряется лошадь во время ночевки в степи — место это назовут ‘Потерянная Лошадь’, сломается колесо на дороге — урочище назовут ‘Сломанное Колесо’, попадется на глаза это колесо во время рождения ребенка — киргиз и ребенка назовет Сломанное Колесо.
Места, получившие наименование Закопанный Колодец, обыкновенно имеют современное происхождение. Вода здесь, как говорят ученые агрономы, ‘в минимуме’: не так почва, не так климат, как вода определяет возможность какого бы то ни было хозяйства.
И вот, когда переселенческий чиновник, проехав суток двое-трое солонцами, вдруг увидит где-нибудь в горной долине земельное ‘удобствие’ и будет так неосторожен и похвалит его. то киргиз после проезда чиновника закопает колодцы: будто здесь воды нет. Местность потом у киргизов будет называться Закопанный Колодец.
Так это мне объясняли.
— Тут, — говорят мне, — живут переселенцы, в Закопанном Колодце, вот уже близко, вот и озеро. Большое озеро блестит перед нами.
— Пресное?
— Пресное.
— Как это может быть? При чем же тут закопанный колодец?
И вот какую повесть рассказывают мне о долине Закопанный Колодец.
— Да, это было. Колодец почему-то закопали, и место получило свое название Закопанный Колодец. Но раз как-то кочующий киргиз во время ночевки откопал колодец, чтобы попоить своих верблюдов. Из колодца побежала вода. Киргиз напился сам, напоил всех своих верблюдов, а вода все бежала. Он уехал. Вода бежала и бежала. Из закопанного места налилось целое озеро воды. Но по-прежнему осталось название Закопанный Колодец.
— Может ли быть?
— Может ли быть? — повторяет мой переводчик-киргиз. — Да, это может быть. По ту сторону озера поселился богатый киргиз, а по эту сторону — бедный. Богатый давал бедному за шерсть пасти баранов и объезжать своих диких степных коней. Бедный был очень доволен богатым, а богатый был очень доволен бедным.
— Так-таки и доволен бедный богатым?
— Так-таки и доволен. Да, бедный был доволен богатым. Они жили ладно у озера. Скоро завелась в озере рыба. Пришел русский казак и стал ловить рыбу и продавать. Богатый киргиз велел всем бедным киргизам ловить в озере рыбу и продавать одному только русскому казаку. Казак скоро разбогател. Богатый киргиз и русский казак стали друзьями, пили часто кумыс и резали баранов и жеребят.
— Русские не едят жеребят!
— Этот казак ел жеребят и очень хвалил. Пришли два русских переселенца, прогнали бедных киргизов вилами и оглоблей. Русский казак перестал ходить к богатому есть жеребят и баранов и пить кумыс. Русский казак стал заступаться за переселенцев. Богатый киргиз поехал к начальнику и давал ему пять тысяч. Начальник приехал сгонять переселенцев.
— Начальник взял деньги? Может ли быть?
— Да, это может быть. Начальник взял деньги. Но переселенцы не пошли. Начальник бранился. Переселенцы пожаловались старшему. Старший сказал: ‘Спасибо, братцы!’ — и прогнал младшего начальника.
— А бедные киргизы?
— Они разорились и ушли в Голодную степь.
— Вот так история!
— Вот так история! — повторяет за мной переводчик.
Такие истории я уже слышал множество раз, но мало ли чего ни говорят в дороге. И я неохотно слушаю все это. Среднеазиатская степь-пустыня с этим кочевым народом, ведущим патриархальную жизнь, стада, бродящие по склонам гор, пастухи-хозяева в лохмотьях, с длинными палками, верхом на лошадях и это открытое большое, богатое, степное солнце — все это ново, увлекает. А тут будто мухи жужжат.
Переселенцев все бранят: сибиряки-старожилы, туземцы-кочевники. Даже чиновники бранят: им тоже нерадостно селить Адама и Еву среди этого безбрежного солонцового океана, заставлять заниматься земледелием в краю, природой созданном для пастухов. Этих переселенцев, куда я еду, особенно бранили: они самовольно заняли место, они — ‘самодуровцы’.
Киргиз мне показал рукой на какие-то траншеи у подножия гор и сказал:
— Это самодуровцы живут.
Траншеи вблизи оказались землянками, как раз такими, в которых зимуют киргизы и хоронят своих мертвецов.
— Быть может, это киргизы?
— Нет, там скота ходит и свинья ходит.
Правда. Рядом с коровой я вижу свинью. Мусульмане не держат свиней. Больше. Все, что пожирает свинья, считается нечистым. Возле Галкита живут тысячи диких свиней, но никто их не трогает. Стоит русскому завести свинью, как живущие вблизи киргизы уходят.
Землянки совсем низкие. Их и вблизи можно принять за батарейные возвышения. Позади — безлесные горы и степь желтая. На сотни верст — ни одного куста. Отопляют здесь собранным в степи навозом. С этой стороны хорошо, но радоваться нечему. Степняк может радоваться, заезжий путешественник, но как жить русскому без березки?
Вместо церкви — фантастические черные горы из разветренного гранита, дикие, с капризными, разбегающимися, как облака, фигурами.
Горы растут, черные фигуры превращаются в разных пугающих диких зверей. Но землянки все такие же низкие.
Переезжаем пересохшую речку. Вечереет. Блестит рыбное озеро, розовым подчеркивая синие горы. На той стороне, как нефтяные цистерны, белеют юрты богатого киргиза. Здесь, но эту сторону, — землянки казака-рыботорговца, и вот тут переселенцы.
Мужик пашет, поднимает новь, — настоящий русский мужик, настоящим плугом. Другой возвращается с поля.
Женщина гонит корову. Землянок — шесть или семь, но только две жилые и курятся, остальные покинуты. Хозяева умерли, или вернулись в Россию, или, может быть, отправились куда-нибудь ‘шукать’ землю в ‘Семирек’.
Эти низенькие землянки теперь, вечером, когда уже над пустынной, девственной степью зажигаются низкие звезды… И эти одинокие люди, пахарь и женщина, здесь, за тысячу верст от железной дороги, за тысячи — от родины…
Что-то такое поднимается: не то детские мечты о жизни Робинзона Крузо, не то юношеские — о толстовских колониях… Не то вся эта русская мечтательная дума красиво и хорошо из ничего начать.
Но голое начало всегда некрасиво. Этот плуг, красиво поднимающий новь, скован чужими руками. Вот и этот светлобородый мужик похож уже не на Робинзона, а на босяка или бродягу, бегает-бегает глазами, так что думаешь: ‘Сейчас бросит все и в ‘Семирек’ убежит’. Другой, чернобородый, постепеннее, посолиднее. Женщина…
— А где другая женщина? Или холостой? — спрашиваю я светлобородого.
— Другая женщина, — отвечает он, — дите родила, лежит.
— Как же крестить-то? — любопытствую я узнать, как первые люди, изгнанные из рая Адам и Ева крестят в пустыне детей.
— Как крестить? Да так. Когда-нибудь перекрестим… Не ловить же в сети попа за бороду.
Весело хохочут все, даже киргиз, мой спутник, и женщина. Юмор никогда не оставляет русского человека.
— А женщинам не жутко?
— Без попов-то? На что их. Женщинам одно только плохо: мамушки далеко. Ну, а как сказать, мужчина о том не вздыхает.
— Заходите в избу.
Все влезают в землянку.
Я прощаюсь на всю ночь с этой степью-пустыней, которую успел уже полюбить, прощаюсь с фантастическими черными горами без деревьев, с висячими низкими звездами и влезаю в землянку Адама и Евы.
— Ну, рассказывайте же, как, за что, почему вы попали сюда.
— Я, — начинает светлобородый, — можно сказать, всю Сибирь исходил и только в Семиречье не бывал, я все виды видал и никакого начальства не боюсь.
Черный тоже не боится: он перед самим Куропаткиным ‘во как стоял’.
— Да бросьте начальство, расскажите о себе, как вы странствовали и что видели в России и Сибири.
Чешутся в затылках, поглядывают друг на друга, прилаживаются, с чего и как бы лучше начать.
— Тут все пересказать, — начинает чернобородый, — так уши развесишь. Ну, так сказать, у этого человека граммофон был.
— Граммофон!
— По-го-ди! — перебивает светлобородый. — Поехали мы сюда на первых колесах. Ходоки нас ведут, говорят: ‘В Заводную степь, — мол, — едем’. Мы их это пытаем: ‘В какую, — мол, — такую Заводную степь?’ ‘Сами, — говорят, — удивляемся, почему так называется. Но только по живой рубеж мочи нет хорошо, и посередке чистый-пречистый ключ бежит’. Весело, ну, прямо, весело едем. В городе к начальству являемся. ‘Вы, — спрашивают, — в Заводную степь едете?’ Мы отвечаем: ‘В Заводную степь желаем ехать’. Выдали нам денег по сту рублей. Приезжаем на место, видим, все как говорили, земля не то чтобы наша, потоньше, но ничего, все как говорили ходоки: и живой рубеж, и все. Потом хватились, а ключа-то нет?! Мы ходоков жать: где ключ?! ‘Не сумлевайтесь, — отвечают, — где-нибудь да есть’. Искали день, два… Что за притча, — нет ключа. Вовсе воды нет…
— Куда же она делась?
— Сами удивляемся, куда делась вода. Нету воды. Стали глядеть, нет ли тут где поблизости места. И полюбилось нам, собственно, вот здесь: озеро рыбное, земля не то чтобы, а — луг, и ярмарка близко. Но только одно: тут киргизята живут. Как тут быть?
Светлобородый рассказчик остановился, поглядел на чернобородого. Оба как-то неловко поглядели на моего переводчика-киргиза, еще раз поглядели друг на друга и фыркнули, как маленькие дети.
— Ну, конечно, у меня вилы, — сквозь смех сказал чернобородый.
И опять фыркнул.
— А у меня, так сказать, оглобля, — сказал светлобородый.
Оба опасливо поглядели на гостя-киргиза, но тот, глядя на их рожи, тоже засмеялся.
Тогда все дружно захохотали. И так это щекотливое и трудное место рассказа прошло весело и приятно, что я не подумал о своей легенде, о том, как богу наскучило потомство первых людей, и как он сотворил вновь Адама и Еву, и как опять их выгнал, забыв про то, что земля занята другими.
Все это я и забыл: вилы и оглобля мелькнули, как веселый анекдот.
— Да, — продолжает рассказчик. — Приезжает к нам после того начальник. Нам бы следовало начальство, как следует, в строгости принять, а мы граммофон завели. Граммофон играет плясовую, начальство радуется: ‘Я, — говорит, — думал, вы тут с голоду помираете, а у вас — граммофон. Недурно, недурно, очень недурно у вас’. А мы ему на это: ‘Ваше благородие, мы начальство всегда в веселом духе встречаем, а вот насчет киргизят-то подписали бы нам бумажонку…’ — ‘Давайте, — говорит, — бумагу…’ Мы туда-сюда: нету бумаги.
— Моя жена… — вставил чернобородый.
— Собственно, чрез вашу жену, — строго сказал светлобородый, — и вышло все. Их жена, — обратился он ко мне, — за коровой ушли и унесли ключ от сундука. А в сундуке бумага была. Ведь вот бы этакий клочок бумажки, папироску свернуть, так ничего бы потом и не было. Поискали мы, поискали. ‘Нету, — говорим, — ваше благородие, бумаги, женщина ключ унесла’. — ‘Нет? Ну, ничего, можно в другой раз написать’. И уехал.
Хорошо. А те киргизята, что на нашем месте жили, все не унимаются: ‘Вы, — кричат, — нас разорили, кормите теперь’. Ну, конечно, мы им надавали хороших лещей. Они — за озеро, к богатому киргизу, волостному управителю, жаловаться. Человек тот — богатый и умственный, они промеж него как барашки живут.
‘Ладно же, — говорим, — вы своему царю жалуетесь, а мы — своему. Я тут хлебопашеством занимаюсь, а вы — баранами, я не для себя делаю, а для правительства’.
Приезжает и наш управитель. ‘Как хотите, — говорит, — уезжайте, участка нет на плане, я пять тысяч на начальство не пожалею, а вас сгоню’. — ‘Ладно, — отвечаем, — ты с пятью тысячами, а мы с дурной головой мужицкой’.
Мы свое, а они свое тарахтят.
Так, господин, тем временем мы кое-как землю расковыряли и посеяли пшеницу, и уже поспевает. Катит к нам переселенный начальник с казаками и киргизами:
‘Убирайтесь!’ — кричит. ‘Ваше благородие, — говорим мы, — вы сами же нам разрешили жить и еще бумагу спрашивали’. Знать ничего не хочет: орет. Мы ему опять тут его же словами все рассказали и про бумагу помянули. И тут он нас такими словами стал лупить, что если бы тут убить его, то и не ответили бы. ‘Бейте их, — кричит он киргизам, — жгите их!’
Мы сейчас, не будь дураки, эти его слова — да на бумагу, и казаков, и киргизов прижимаем. Слышали? Подписывайтесь! Он сробел, а у нас духу прибыло.
После этого вскоре приезжает на ярмарку самый главный начальник. Мы ему все рассказали: как нас ходоки обманули, как мы землю заняли, и про граммофон, и про бумагу помянули. ‘Мы, — говорим, — ваше превосходительство, не для себя живем, а для хлебопашества и, так сказать, для правительства’. — ‘Спасибо, братцы, — отвечает он нам, — не бойтесь никого, живите себе’.
Вскоре межевой приехал, нарезал нам земли вволю: куда глаз хватит — все наше…
— На две семьи столько нарезали? — не доверяю я.
— Зачем на две, разве нас двое было.
— Где же те?
— Разбежались. ‘Земля, — говорят, — тут тонка, засуха я иней среди лета падает’.
— А киргизы?
— Киргизят мы, как маленьких ребят, жамочками кормим.
На этом рассказчик окончил, и все мы улеглись спать в этой землянке на новых местах. А утром, записывая рассказ, я спросил, что это за ‘жамочки’, которыми они кормят киргизов.
— Жамочки! — засмеялись самодуровцы. — Вот…
Мне показывают рукой на степь, на луга, на все это громадное количество солонцовых степей, непригодных для земледельцев, но нарезанных исключительно потому, что участки чернозема лежат между ними. Места совершенно непригодные для земледельца, но необходимые пастуху Вот эти-то места и отдают переселенцы в аренду согнанным киргизам ‘двадцать пять рублей за клочок’ и называют это ‘жамочки’.
— И ничего они? — спрашиваю я, удивляясь.
— Ничего. Маленько потопчут когда наши огороды, ну, мы им тут лещей надаем, они и перестанут. Мы им говорим: ‘Занимайтесь хлебопашеством, собирайтесь в поселки’.—
‘А ежели, — отвечают они, — мы поселками будем жить, так нас в солдаты заберут и в свою веру перекрестят’. На это мы им отвечаем тоже: ‘У нашего государя гонения за веру нет, не то чтобы по прочим государствам’.
III. Арка
1
Беда тому, кто приедет в Сибирь с обычным представлением о пространстве, с привычными мерами его и, значит, времени. Масштаб тут приблизительно такой: у нас десять, у них — сто, у нас — двадцать, у них — двести и т. д.
Я проезжаю пустынною степью на протяжных верст шестьдесят в день. Проходит так день, другой, третий, четвертый…
Небо и желтый сухой океан. Потом еще горы, синие палатки или черные окаменелые волны, если подъедешь поближе. Почва все солонцовая. Растительность: низкая полынь, травка ‘кипец’, или ‘щетка’ в несколько вершков высоты, похожая на аптекарскую банную мочалку.
Земля пропитана солью, белые пятна солонцов будто снег. Слой гальки везде покрывает почву.
Иногда, потеряв эту плохо заметную кочевую или, как говорит киргиз, мой проводник, ‘кочующую’ дорогу, мы останавливаемся и ждем подъезжающего к нам всадника.
— Эй, бер-ге-ле-гет! — зовет его проводник. — Поди сюда.
Тот замечает русского и удирает.
— Берге, берге, берге! — напрасно кричит проводник. Тот улепетывает.
— Берге-пкечь, берге-пкечь! — надрывается проводник.
Верховой останавливается на недосягаемом расстоянии и спокойно нас наблюдает.
Обычно же у киргизов не только люди, но и лошади останавливаются при встрече в степи.
Мы идем к аулу. Голые ребятишки, завидев нас, прячутся. Словом ‘о-орос’ (русский) пугают маленьких детей, как у нас волками. Мы подъезжаем к аулу, спрашиваем: дома ли мужчины?
— Джок (нет), — слышится женский голос из юрты.
Но мужики, конечно, дома.
— Джок, джок…
Пустынные степи и вот эти напуганные люди. Трудно представить себе душевное состояние образованного человека, которому поручено здесь во что бы то ни стало найти земли, удобные для водворения странствующих, ищущих приложения труда Адама и Евы.
Раз мы увидели в степи две белые точки и подумали: вот чайки, наверно, уже близко озеро. Немного спустя две чайки оказались белыми палатками. Был конец сентября, стояла страшно холодная погода с ночными морозами до 10RR и снежными буранами. Кто же это может жить в таких легких палатках?
И оказалось, тут живут две петербургские барышни, студентки политехнического института. Они — топографы, нарезают участки для переселенцев. Барышни в своих ватных кофточках страдают от холода, торопятся поскорее закончить работу и уехать в Петербург. Они получают сто рублей в месяц. Погоня за заработком загнала их так же, как и Адама и Еву, в эти дикие, пустынные кр
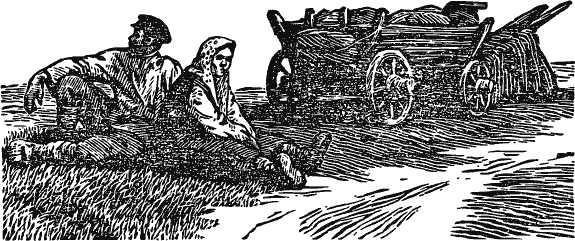
I. Вечная пара
1
2
2
3
3
4
4
II. Самодуровцы
II. Самодуровцы
III. Арка
III. Арка
1
1
