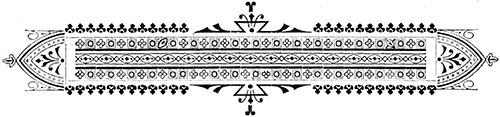Иоасаф Любич-Кошуров.
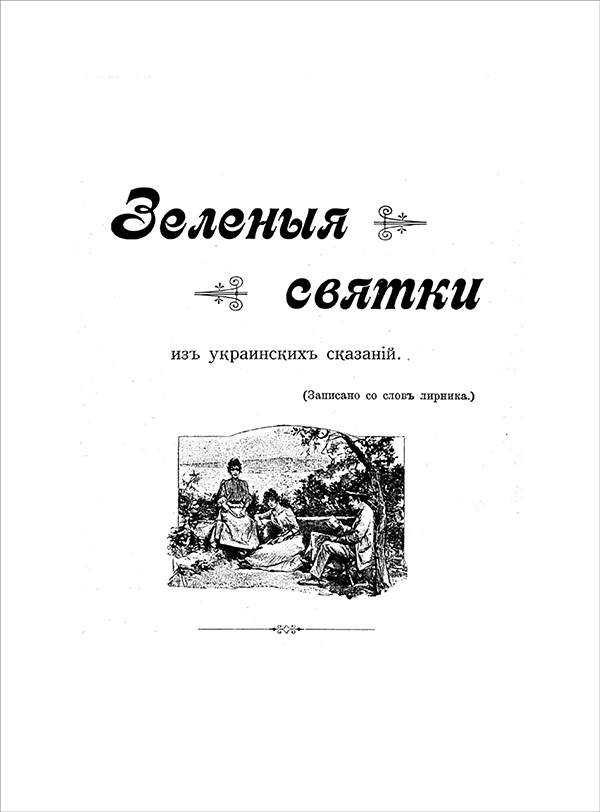
Иоасаф Любич-Кошуров. 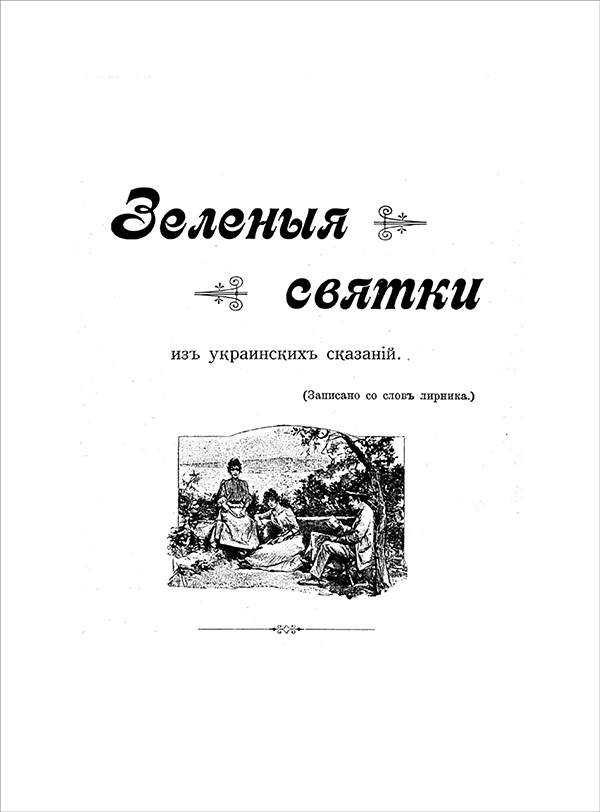

Зеленые святки [*]
Зеленые святки [*]
Из украинских сказаний
(Записано со слов лирника)
Вечер первый
Вечер первый


Вечер второй
Вечер второй
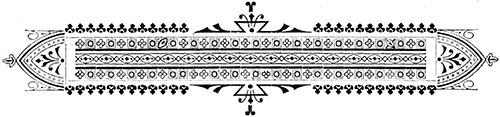

Иоасаф Любич-Кошуров. 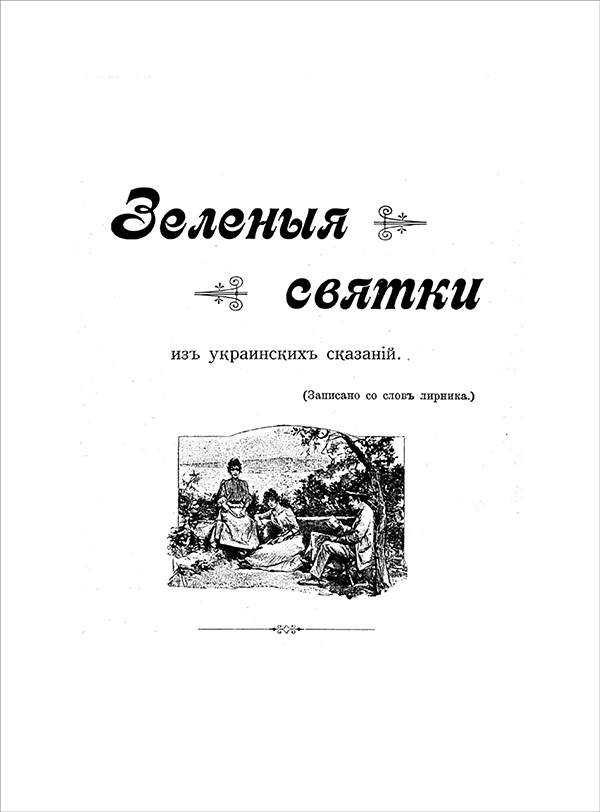

Зеленые святки [*]
Из украинских сказаний
(Записано со слов лирника)
Вечер первый


Вечер второй