Дойвбер Левин
Дойвбер Левин
Вольные штаты Славичи
Вольные штаты Славичи
Рисунки А. Каплана
Глава первая. Лесные гости
Глава первая. Лесные гости

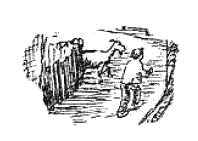
Глава вторая. Клуб РКСМ
Глава вторая. Клуб РКСМ

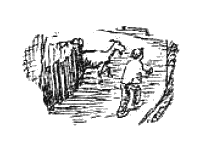
Глава третья. На карауле
Глава третья. На карауле
