Михаил Пришвин.
Славны бубны
Михаил Пришвин.
Славны бубны
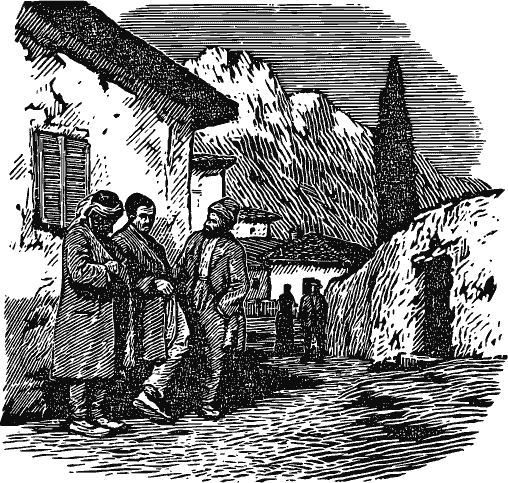
I
I

II. У деда под бородой
II. У деда под бородой
III. Любовь Османа
III. Любовь Османа
Михаил Пришвин.
Славны бубны
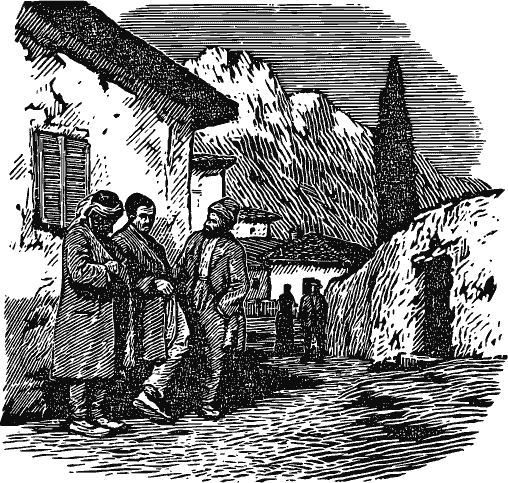
I

II. У деда под бородой
III. Любовь Османа