Марсель Пруст
Утехи и дни
Марсель Пруст
Утехи и дни
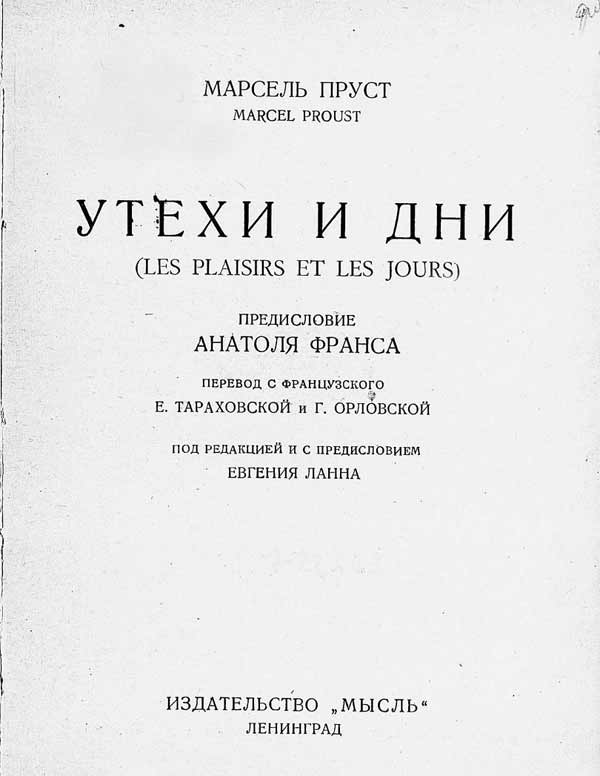
Обед в городе
Обед в городе
1. Обед
1. Обед
Но кто, Фунданий, разделил с тобой радости сей
трапезы? Мне очень хотелось бы знать это.
Гораций
II. После обеда
II. После обеда
———————————————————
