Пётр Романович Фурман
Пётр Романович Фурман
Путешествие по всей России
Путешествие по всей России
Нарва
Нарва
Приезд в Нарву. Дворец Петра Великого. Крепости. Начало истории. Начало легенды
Приезд в Нарву. Дворец Петра Великого. Крепости. Начало истории. Начало легенды
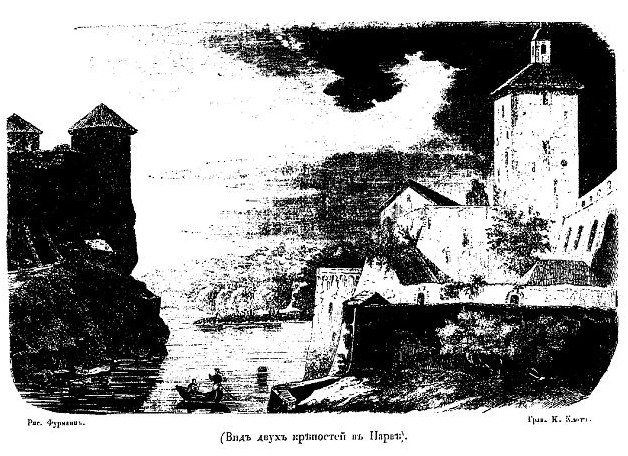

Erepta restituit.
Sabitur sic videre partum.
Нептун с трезубцом.
Imperat mari и др.
—
—
Окончание легенды, окончание истории, водопад
Окончание легенды, окончание истории, водопад
—
—
—
