
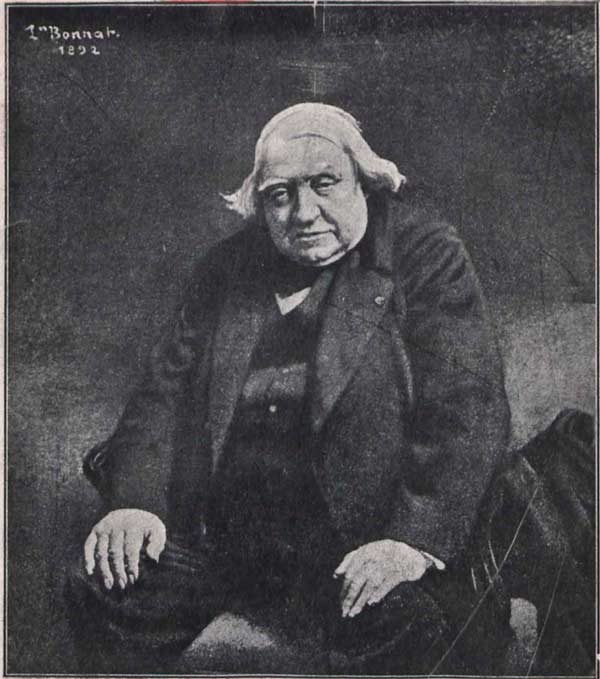
Перевод с французского Е. Гуровой.
Милостивые государыни и милостивые государи!

— Я — Мудрость. Даже лучшим из людей трудно сразу узнать меня из-за покрывал и облаков, которые меня обволакивают, ибо, подобная небу, я бываю сумрачна и ясна. Но ты, мой кроткий Кельт, ты всегда меня искал, и каждый раз, как встречал, всем умом своим и всем сердцем стремился узнать меня. Все, что ты написал обо мне, поэт, истинно. Греческий гений заставил меня спуститься на землю, и я покинула ее, когда он испустил последнее дыхание. Варвары, завладевшие миром, не ведали, что такое мера и гармония. Красота наводила на них страх и казалась им злом. Видя, как я прекрасна, они не поверили, что я — Мудрость. Они изгнали меня. Когда же, рассеивая десятивековый мрак, занялась заря Возрождения, я снова спустилась на землю. Я навещала гуманистов и философов в их кельях, где они, в глубине своих сундуков, как драгоценность, хранили кучку книг, я навещала художников и скульпторов в их мастерских, которые представляли из себя не более, как бедные ремесленные каморки. Некоторые из них предпочли взойти живыми на костер, чем отречься от меня. Другие, по примеру Эразма, насмешками спасались от своих глупых противников. Один из них [Раблэ. Прим. перев.] — он был монах — временами так неистово хохотал, рассказывая приключения великанов, что мой слух был бы оскорблен, если бы я не знала, что иногда безумие бывает мудростью. Мало-помалу, сила и число моих верных приверженцев возросли. Французы, первые воздвигли мне алтари. И целый век их истории посвящен мне.
