Литвинов Б.
Литвинов Б.
Через Бухару на Памиры
Через Бухару на Памиры
I.
I.
II.
II.
![[]](https://electronic-library.ru/wp-content/uploads/2023/05/text_1904_cherez_bukharu_na_pamiry-1.jpg)
Спуск с дороги от перевала Чарага.
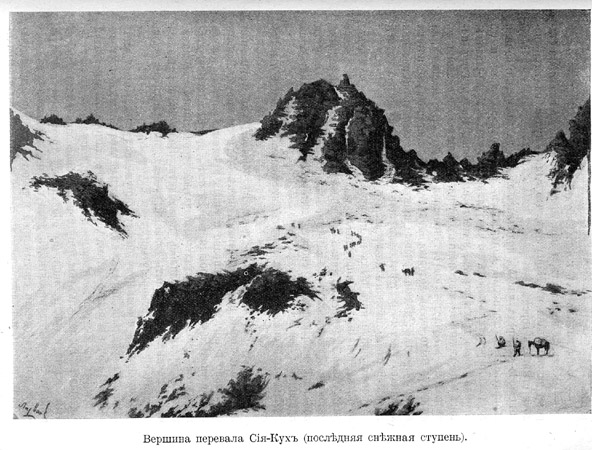
Вершина перевала Сия-Кух.
Литвинов Б.
Через Бухару на Памиры
I.
II.
![[]](https://electronic-library.ru/wp-content/uploads/2023/05/text_1904_cherez_bukharu_na_pamiry-1.jpg)
Спуск с дороги от перевала Чарага.
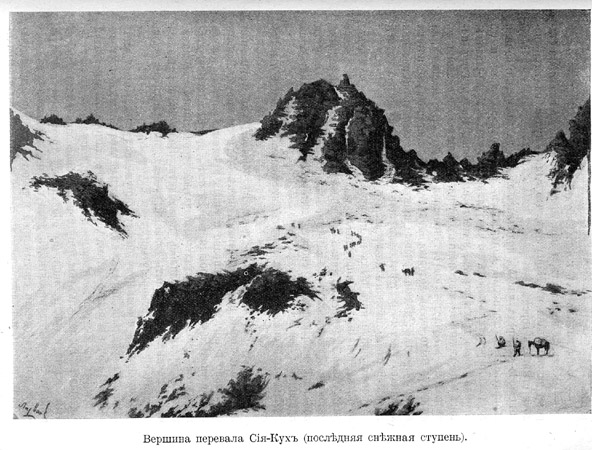
Вершина перевала Сия-Кух.