И. Саркизов-Серазини
В стране Тамерлана и жаркого солнца
И. Саркизов-Серазини
В стране Тамерлана и жаркого солнца
С 22 иллюстрациями
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД
Оглавление
Предисловие
Предисловие
И. Саркизов-Серазини
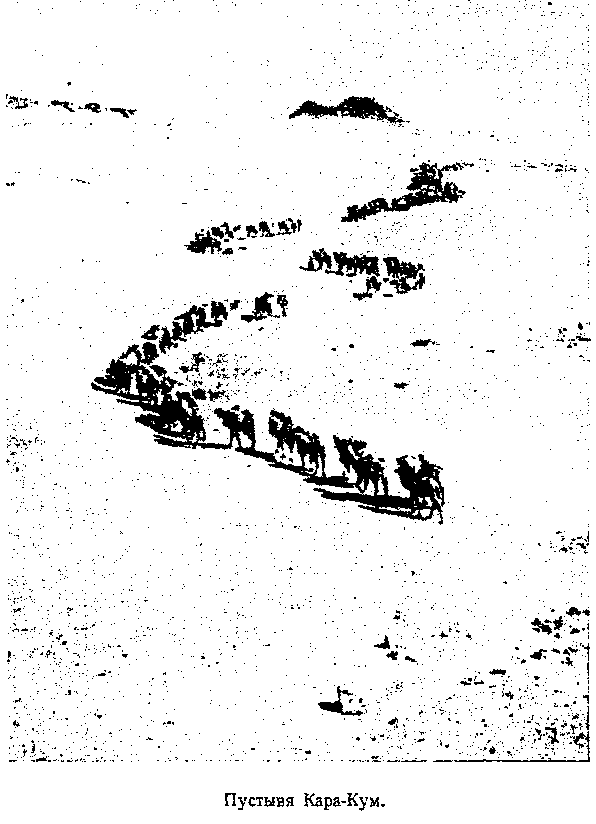
I
I
Туркестан — страна воспоминаний.— Дорога.— Волга.— Ночная песня.— Оренбургские степи.— Миражи.— Аральское море.— Пустыня Кара-Кум.— Река Сыр-Дарья.— Киргизские собаки.— Вершина ‘Казы-Курт’ — место остановки ковчега Ноя.— Ташкентский оазис.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
II
II
Ташкент.— Ночной город.— Азия и Европа.— Музеи. История страны.— Современная культура.— Уличные сценки.— Прогулки по европейскому городу.
6
6
