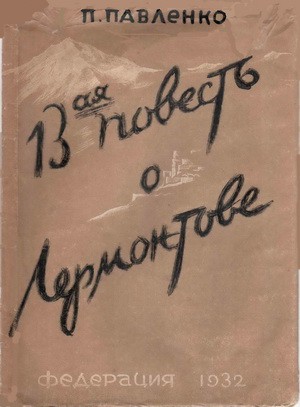
Пётр Павленко
Пётр Павленко
13ая ПОВЕСТЬ О ЛЕРМОНТОВЕ
13ая ПОВЕСТЬ О ЛЕРМОНТОВЕ

В 193… году появилось двенадцать произведений о Лермонтове.
(Из газет)

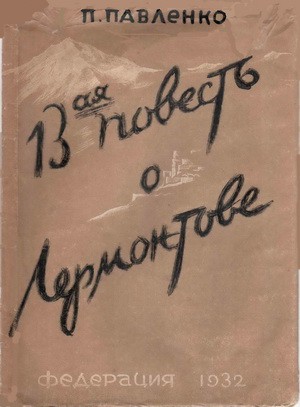
Пётр Павленко
13ая ПОВЕСТЬ О ЛЕРМОНТОВЕ

В 193… году появилось двенадцать произведений о Лермонтове.
(Из газет)
