Жуковский
Жуковский
1
1
Прибрежный лес в волнах изобразила,
Шумят струи, кипя вкруг челнока,
И ласточка, пришлец издалека,
Приют любви, гнездо свое сложила. [2]
2
2
Когда прострешь ко мне ласкающую руку?
Когда мне встретить твой душе понятный взгляд
И сердцем отвечать на дружбы глас священный?
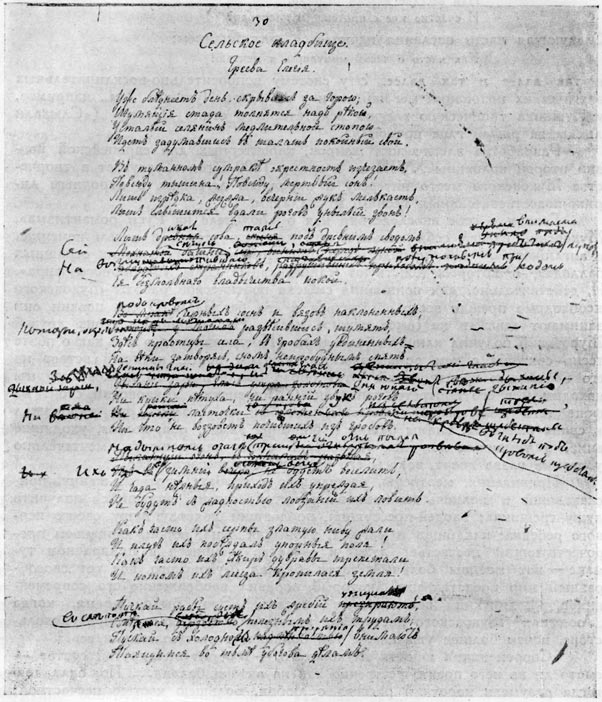
Автограф В. А. Жуковского — перевод (1802 г.) ‘Сельского кладбища’.
И счастие мое с протекшим протекло?
Мне руку подала.
И что-то ей хотелось
Сказать… но не могла!
Он высшую силу признал над собой,
По воздуху вихорь свободно шумит,
Кто знает, откуда, куда он летит?
Так песнь зарождает души глубина,
И темное чувство, из дивного сна
Как свежая роза — утеха долин,
Невинная, сердце невинное в нем.
И пышностью гремел,
Он все во мне имел.
Мне предлагали в дар
А те притворный жар.
Привлечь меня мечтал…
Эдвин, любя, молчал.
Судьба одно дала:
Она моей была.
Всегда возвышаюсь душою…
3
3
Когда взгляну на этот замок Ретлер,
Приходит в мысль, что если это проза
Да и дурная…
