Джон Рёскин.
Сезам и Лилии
Джон Рёскин.
Сезам и Лилии
Sesame And Lilies
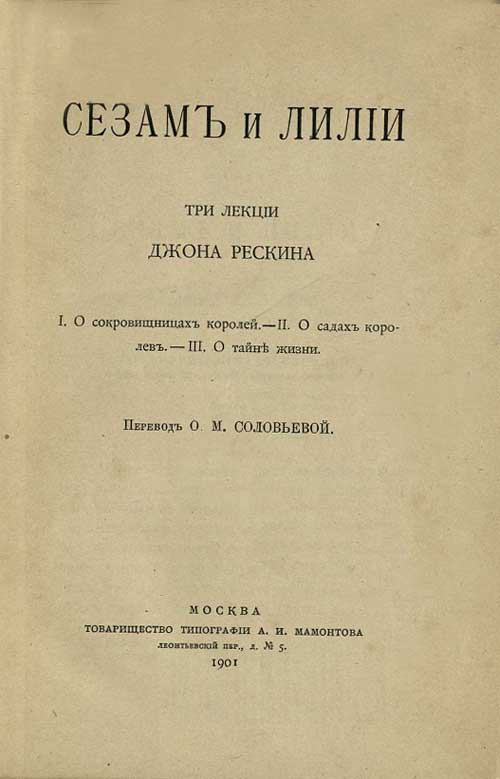
Лекция I.
Сезам.
О сокровищницах королей
Лекция I.
Сезам.
О сокровищницах королей
Каждый из вас получит по десяти
фунтов сезама и по пирогу из него.
Лукиан ‘Рыболов‘
