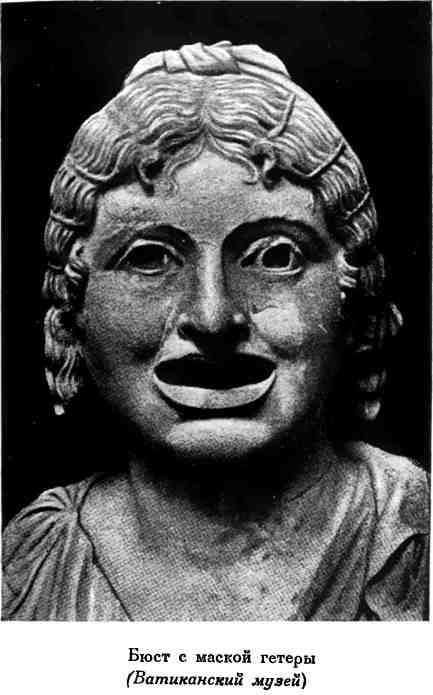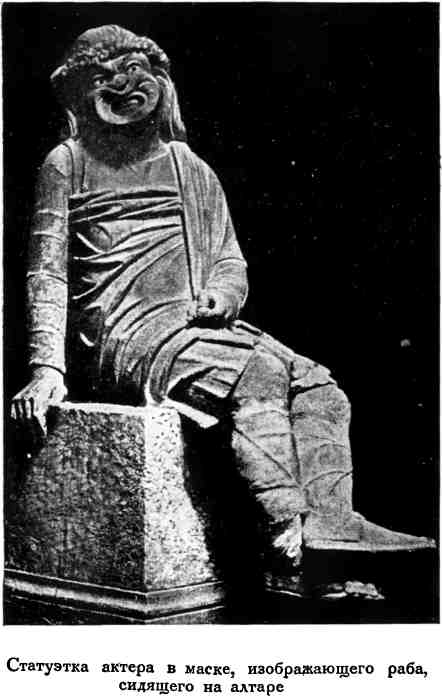АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
МЕНАНДР
IV век до н. э.
АСADЕMIA
Москва — Ленинград
1936
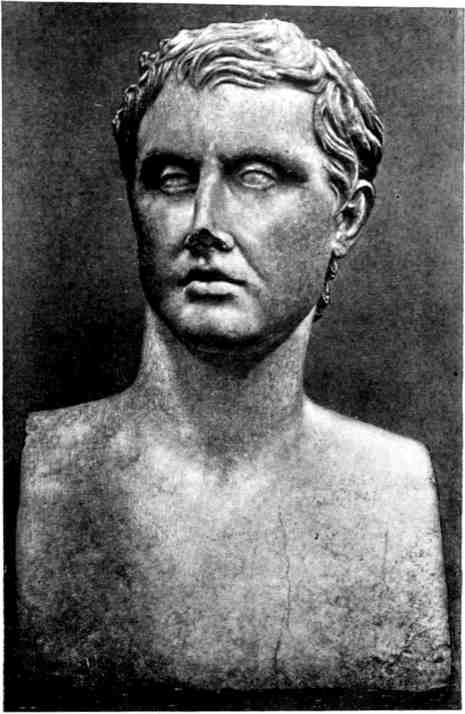
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1
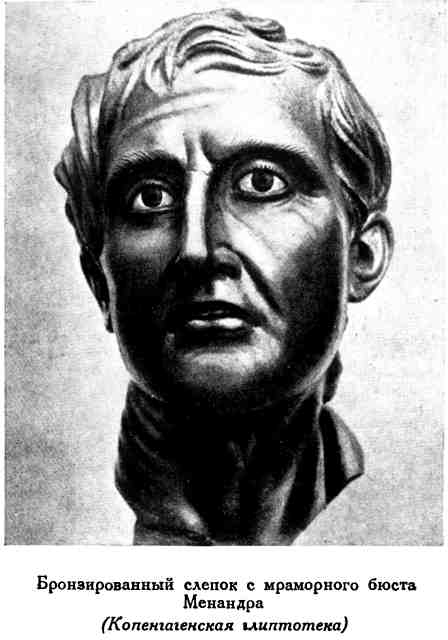

2


3
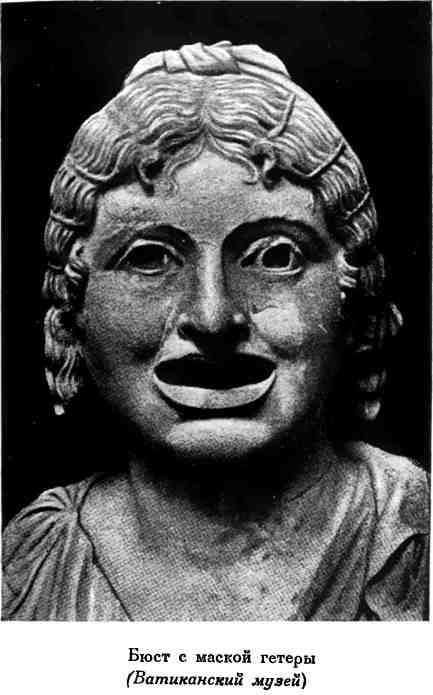
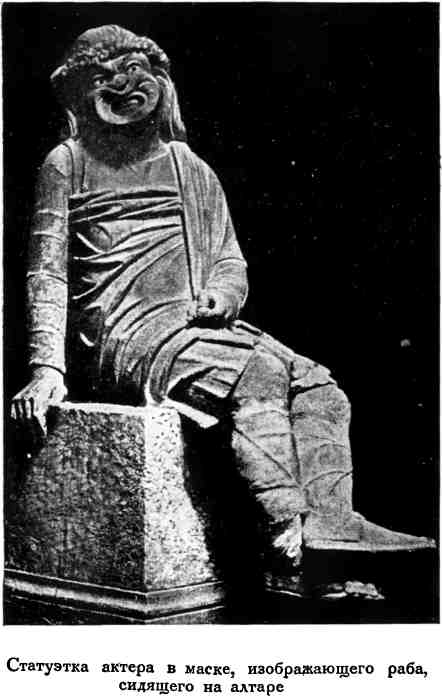
АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
МЕНАНДР
IV век до н. э.
АСADЕMIA
Москва — Ленинград
1936
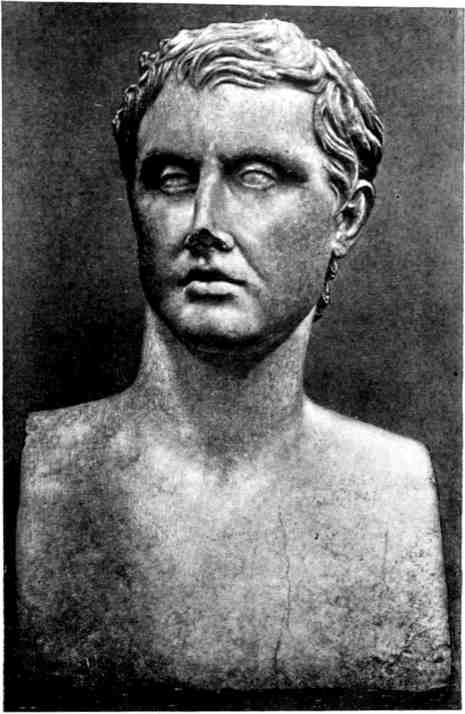
ВВЕДЕНИЕ
1
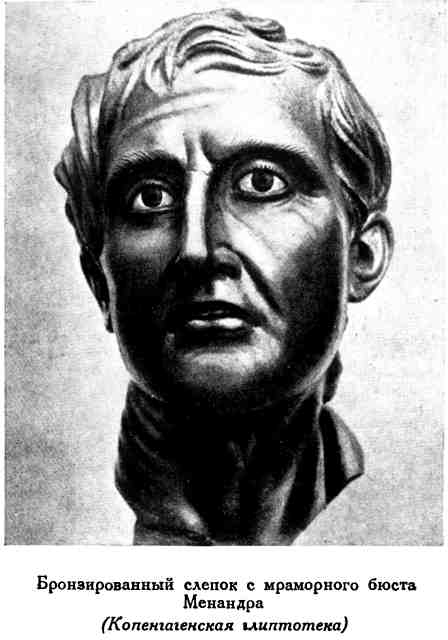

2


3