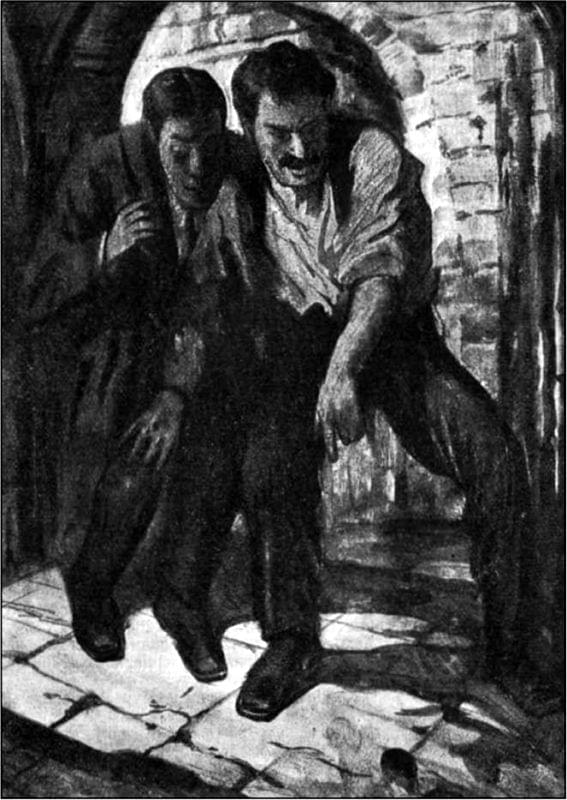Лаборатория великих разрушений
Лаборатория великих разрушений
Рассказ С. Бельского
I. Из дневника русского журналиста в Париже
I. Из дневника русского журналиста в Париже

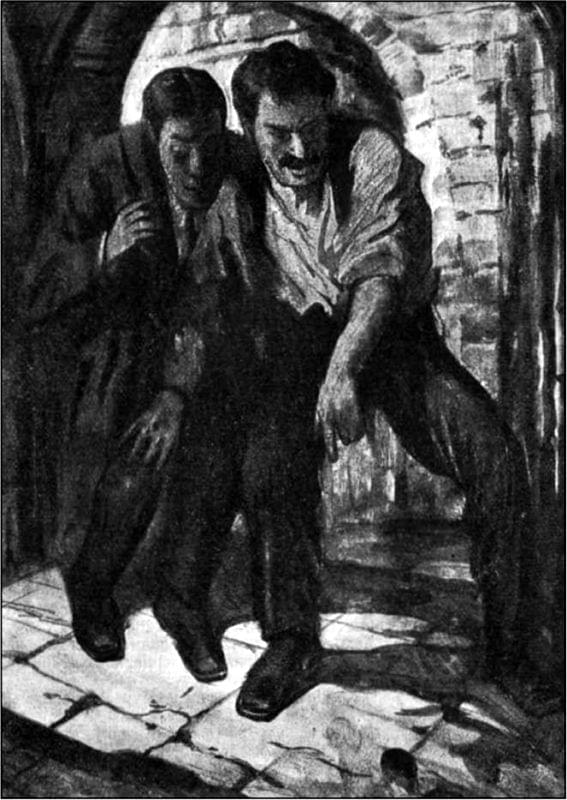

Лаборатория великих разрушений
Рассказ С. Бельского
I. Из дневника русского журналиста в Париже