Р. С. Ф. С. Р.
Р. С. Ф. С. Р.
МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ РУССКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ
МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ РУССКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ
Т. II
Т. II
РУССКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ АРХИВ/БЕРЛИН
РУССКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ АРХИВ/БЕРЛИН
Типография ‘Vorwrts’, март 1924 г.
Alle Rechte, insbesondere
das der Uebersetzung, vorbehalten
Copyright by ‘Russisches Revolutions
archiv’ Berlin — Charlottenburg
Mommsenstrasse 46.
ИЗ АРХИВА П. Б. АКСЕЛЬРОДА
ИЗ АРХИВА П. Б. АКСЕЛЬРОДА
1881-1896
1881-1896
ИЗ ПЕРЕПИСКИ С. М. КРАВЧИНСКОГО
ИЗ ПЕРЕПИСКИ С. М. КРАВЧИНСКОГО
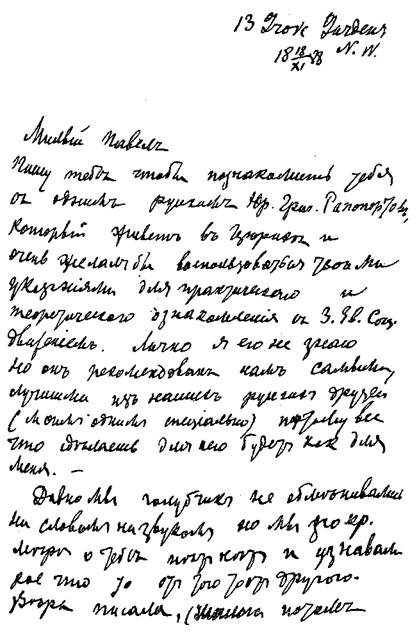
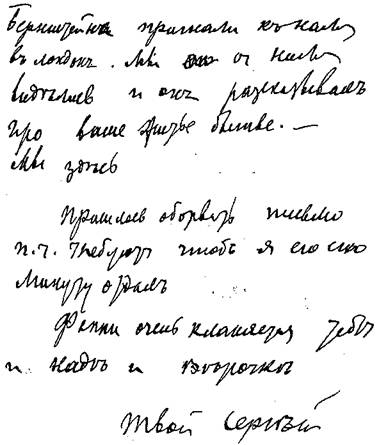
1. С. М. Кравчинский — П. Б. Аксельроду
1. С. М. Кравчинский — П. Б. Аксельроду
(Милан, апрель 1882 г.)
Милый Пинхус![i]
Ну, до свид[анья].
All’Egregio Sig. Emilio Quadrio
Via Maravigli, 10, Milano.
Поцелуй от меня Надю[xiii].
С.
2. С. M. Кравчинский — П. Б. Аксельроду
2. С. M. Кравчинский — П. Б. Аксельроду
[Милан, мая 1832 г.]
Милый Пинхус!
3. С. M. Кравчинский — П. Б. Аксельроду
3. С. M. Кравчинский — П. Б. Аксельроду
[Милан, 1883 г.?]
Милый Пинхус!
4. С. М. Кравчинский — П. Б. Аксельроду
4. С. М. Кравчинский — П. Б. Аксельроду
Лондон, 18 ноября 1888 г.
Милый Павел!
Твой Сергей.
5. П. Б. Аксельрод — С. М. Кравчинскому
5. П. Б. Аксельрод — С. М. Кравчинскому
Кларан, 4 июня 1889 г.
Милый Сергей!
6. С. М. Кравчинский — П. Б. Аксельроду
6. С. М. Кравчинский — П. Б. Аксельроду
Лондон, 30 августа 1892 г.
Милый Павел!
Твой Сергей.
7. С. М. Кравчинский — В. И. Засулич
7. С. М. Кравчинский — В. И. Засулич
Лондон, 11 октября 1892 г.
Милая Вера!
