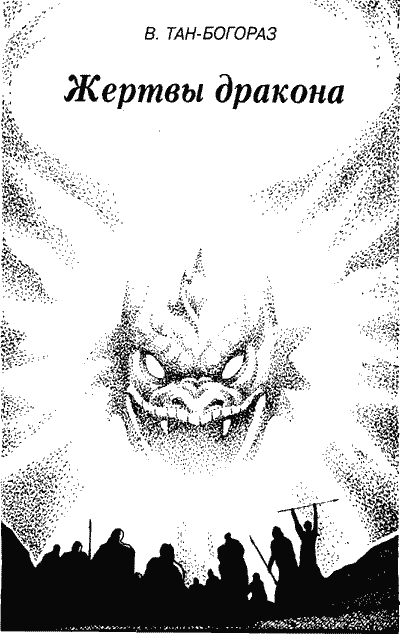
Повесть
Иллюстрации В. Ан
ОГЛАВЛЕНИЕ:
| ГЛАВА 1 ГЛАВА 2 ГЛАВА 3 ГЛАВА 4 ГЛАВА 5 ГЛАВА 6 ГЛАВА 7 ГЛАВА 8 ГЛАВА 9 ГЛАВА 10 ГЛАВА 11 ГЛАВА 12 ГЛАВА 13 ГЛАВА 14 ПОСЛЕСЛОВИЕ |
ГЛАВА 1
Юн Черный встал в полночь, когда другие спали. Было тихо, только река Дадана слабо шумела внизу под обрывом. Юн вытер росу со своего нагого тела, слегка потянулся, сдерживая дрожь, потом посмотрел на звезды. Звезды были благосклонны. На краю неба уже поднимался Охотник* в ярком Поясе из трех светлых Раковин и протягивал вперед свой остропламенный Дротик**. Дикие Олени***, которые пасутся на берегах Песчаной Реки****, не пошевелились, и яркое око Отца*****, вечно недвижное в небе, мигало, как будто говорило: ‘Ищи’.
_______________
* Орион.
** Альдебаран.
*** Кассиопея.
**** Млечный Путь.
***** Полярная звезда.
Юн Черный опустил голову вниз и посмотрел на воинов. Их голые тела смутно белели в слабом свете звезд. Ночь была холодная, но перед крупной охотой или войной Анаки остерегались закапываться в листья или покрываться плащами из шкур. Они спали нагие, на голой земле, как змеи или как камни.
Перед этой охотой даже костров не зажигали. Анаки ждали оленей. Запах дыма мог бы заставить пугливое стадо свернуть в сторону. Уже девять дней Анаки сидели на берегу реки Даданы без огня и почти без пищи. Они даже говорили шепотом и в разговоре называли оленей уклончивым именем: — ‘Серые Лица’, чтобы колдуны оленьего стада не услыхали и не поняли.
Юн Черный пытливо смотрел на белые тела. Воины спали или притворялись спящими, ибо никто не должен был видеть, как он уходит. Юн Черный был колдун ночной, полусокрытый. В эту ночь он шел на борьбу с колдунами оленьего племени, и ему не нужно было ни друга, ни помощи.
Воины спали, старые и молодые. Юн узнавал знакомые фигуры. Вот Альф Быстроногий, Мар Красивый и Несс, друзья-соперники, Илл Бородатый, Лиас большой и много других. Они походили на белых тюленей, заснувших на песке.
Отроки спали отдельно от взрослых. Они еще не приняли обета посвящения и не прошли установленного искуса в роще терновой под хлесткими прутьями и потому не имели права спать рядом со взрослыми.
Кроме воинов и отроков, в лагере никого не было. Это была мужская орда. Племя Анаков делилось на две половины, мужскую и женскую. Они обитали отдельно весною и летом и сходились вместе только после великих охот на праздник осеннего солнца. Этот праздник был также праздником брачным. Там составлялись новые пары и зачинались новые дети Анакского племени. И через девять месяцев, весною, дети Анаков рождались на свет к новому теплу и изобилию пищи.
Юн Черный взял копье, потом подобрал мешочек с красками и сошел к реке. Он три раза окунулся в свежие волны, совершая обряд очищения, вытер тело песком, стараясь скрести свою кожу как можно сильнее. Тело его горело. Он поднялся обратно наверх, но не пошел на становище, а углубился в ивовые заросли, которыми были покрыты берега Даданы. Они сплетались стеной, густой и невысокой. Ему приходилось пробираться почти ползком, как пробирается лисица на охоте.
Постепенно кусты поредели, открылось волнистое взгорье, пересеченное ущельями, поросшее лесами, смутно черневшими во мгле. Перед Юном была тропинка. Она пропадала и снова появлялась, раздвигала кусты и уходила в горы. Это была оленья тропа.
Олени каждую весну собирались стадами и спускались с гор на моховые пастбища у берегов океана. Они шли прямо, с юго-востока на северо-запад, и переплывали по дороге широкие реки. На реке Дадане у них были три битые тропы. Анаки сидели на средней тропе у Лысого Мыса. Они кололи оленей длинными копьями в волнах реки и в удачный год убивали тысячи.
Стада за стадами являлись в разное время. Сперва приходили матки с телятами, потом быки. Анаки находили такое разделение совершенно естественным. Они говорили, что олени живут раздельно и сходятся осенью справлять в дальних горах праздник осеннего солнца, и ставят колесо, и пляшут кругом вперемежку с женами, точь-в-точь как люди.
Юн Черный добрался до леса и остановился на опушке. Он встал на оленьей тропе, чтобы чарами привлечь запоздавшее стадо.
Прежде всего он решил испытать добрые чары и льстивые слова. Он вынул из мешка щепотку красной охры, смешанной с жиром, размял ее между пальцами и стал выводить на груди, животе и на бедрах красные мирные знаки. Это были кисти рук с загнутыми пальцами, крючки с петлями. Юн повернулся боком так, чтобы эти крючки протягивались вперед, навстречу предполагаемым оленям.
— Мы ждем вас, серые друзья, — заговорил он самым убедительным тоном. — Придите. Мы снимем ваши шубы, и вы отдохнете. Мы вас согреем у теплого огня. Мы вам постелем мягкие шкуры…
Он замолк и остановился, прислушиваясь. Ничего не было слышно. Олени не являлись. Тогда он начал второе заклинание, более сильное, — брачное заклинание весенней охоты. Ибо охота на маток и телок весною считалась, как брак. Это была первая красная свадьба анакских охотников.
Юн говорил:
| Жены оленьи, сдавайтесь. Я внушаю вам страсть. Пусть запах мой вас привлекает, как мускус. Пусть песня моя для вас будет, как ягель. Спешите на пир… |
Он делал зазывные жесты, кружился и прыгал, изображая брачную пляску Анаков. Эту пляску они плясали перед женами без копья и без всякого оружия. Юн Черный перед весенней охотой плясал ее с копьем в руках.
| Серые жены, сдавайтесь, Мы возьмем вашу плоть… |
— Пел Юн.
Он снова остановился и прислушался, потом встал на колени и припал ухом к земле. Земля молчала. Ни один звук не говорил о приближении желанного стада.
Черный Юн рассердился.
Он быстро стер со своего тела красные знаки привета, вынул кусок черного камня и стал проводить на груди грубые черты, прямые и кривые. Это были знаки войны и вызова. Они изображали открытые пасти, усеянные зигзагами зубов, прямые разящие копья, большие круглые глаза.
— Серые шкуры, — заговорил Юн, — идите биться. Волчья сыть, мы выпьем вашей крови…
Юн долго ждал и слушал, но олени не являлись.
— Мы выпьем вашей крови, — повторил Юн. Брюхо его сжалось от голода. Алчный рот стянулся, как будто от оскомины.
Тогда Черный Юн начал молиться богам. В своем полуночном коварстве он с тайным расчетом помолился сперва солнцу, богу дневному и богу чужому и сказал ему так: ‘Красное Око, посмотри хорошенько, не найдешь ли ты этого стада. Я дам тебе жиру’.
Солнце не отвечало.
Юн стал поминать всех богов и духов, которые ему приходили на ум: Речного Бога, трехпалого, с одним глазом, Горного Духа с гранитной головой, замурованного в утес. Он обратился даже к собственному брюху и сказал ему так: ‘Брюхо, запой, дай знак о приближающейся пище’. Но брюхо молчало.
Только тогда Юн обратился к последнему богу, грозному богу Дракону, тому, кто поглощает солнце и извергает его обратно. То был его собственный бог, древний бог, малоизвестный людям, бог полуночи, таинственный, странный, лукавый.
Юн обратился к нему, полный трепета, и сказал ему так:
— О, Дракон, как ты поглощаешь солнце, дай мне поглотить этих оленей… Сделай хоть знак… Я дам тебе жертву.
Юн подождал.
— Телку молодую, лучшую из стада…
Бледное лицо луны поднималось с востока. Лицо луны было лицом Дракона. Оно смотрело на Юна и насмешливо улыбалось.
— Белую телку… — сказал Юн. Он сам не знал, что обещать больше. Белые телки были редки, иногда за всю охоту не попадалось ни одной.
Он замолчал и стоял, ожидая. Бледное лицо в небесах молчало и улыбалось.
Тогда Юн вспомнил о женской орде. Она стояла на реке Дадане, за полдня ходьбы вниз по течению. Там были матери с детьми, девушки, старухи. Обитая отдельно, они получали запасы от промысла мужчин. Во время оленьей охоты на реке Дадане они выезжали в широких ладьях и ловили туши, которые несло по течению. Мужчины брали себе только тех животных, которых прибивало к берегу тут же, на месте охоты.
Юн вспомнил женский лагерь, и сердце его сжалось. В женском лагере жила Юна, жена колдуна. Черный Юн сошелся с ней четыре года назад из-за сходства имен, а также из-за ее пушистых светлых кос. С тех пор они встречались каждую осень, не ища и не желая никого другого. В первую весну после их брака Юна принесла ребенка, мальчика. Юн видел его только по зимам. Он не знал даже его тайного имени, данного старухой-гадальщицей. В разговоре с Юной и вслух перед другими они называли его Мышонком. Но он думал о своем белом Мышонке в эти голодные вешние дни. И даже колдовством своим он привлекал мелкую добычу, куропаток и зайцев и посылал их в женский лагерь, прямо к сыну.
Но в эту скупую, холодную полночь все колдовство его было бессильно. Безумный гнев охватил Юна, он заскакал на месте и закружился, как будто ужаленный осою.
Сами собой к устам притекли богохульные слова:
— Божонки, нищие, дать вам нечего. Дух Лесной, и Дух Речной, и Дух Озерный, идите сюда. Я вас съем…
Раздался треск сучьев. Из-за толстого древесного ствола поднялось что-то большое, темное. Юн вздрогнул и смолк. Потом сделал движение, чтобы бежать, но остался на месте. Мохнатая черная грива, которая принесла ему прозвище Черного Юна, зашевелилась от страха на его голове.
В бледном свете месяца Юн увидел грузную черную фигуру. Она встала и выпрямилась. Она показалась ему неслыханно огромной. Вид ее был, как вид медведя, вставшего на дыбы. Дух Лесной во образе медвежьем явился на зов и приближался к дерзкому колдуну.
Юн стоял и ждал с тупым отчаянием в душе. Фигура подходила все ближе. Он слышал хруст веток под ее ногами и тяжелое дыхание.
И вдруг чувство неминуемой опасности выросло и заслонило в нем суеверный ужас. Он не думал, но чувствовал: ‘Это — медведь, живой медведь’.
Живой, настоящий медведь весной, пожалуй, опаснее, чем медвежий призрак. Он только что вышел из зимней берлоги, тощий, злой и растрепанный. После зимнего поста он голоден, но найти весной еду трудно. Поэтому весной медведь опаснее, чем летом.
‘Он сейчас на меня бросится’, — чувствовал Юн.
Он выставил вперед правую ногу, упер перед нею в землю ясеневое древко своего длинного копья, подставил навстречу медведю костяное острие и ждал, что будет.
Медведь уже обдавал его своим горячим дыханием. Юн глянул на него, и ему показалось, что, несмотря на близость, черное чудовище сделалось как будто меньше.
Страх Юна сменился яростью.
‘Твоя погибель или моя, — подумал он, стискивая зубы. — Медведь ты или дух…’
И вдруг, в самую решительную минуту, когда копье Юна уже касалось мохнатой груди чудовища, случилось что-то неожиданное, почти невероятное. Темная фигура быстро опустилась на землю и мягко, без всякого шума скользнула в сторону. И почти тотчас же налево от тропинки послышались звуки борьбы, странные храп и движения грузных тел.
‘Олени’, — подумал Юн. Он узнал бы этот храп из тысячи других.
Шум продолжался. Слышался частый стук, как будто кто колотил по дереву палкой. Это умирающий олень трепетал в агонии и бился копытами о молодые стволы. Вместе со стуком раздалось чавканье. Был ли это зверь или дух, но он был голоден и стал пожирать добычу еще заживо.
Все мысли Юна перепутались.
‘Стало быть, это медведь, — подумал он с облегчением. — И олени пришли. Кто их прислал, какой бог?’
Бледное лицо луны заглянуло ему в глаза и улыбнулось насмешливо.
‘Ага, ты… — подумал Юн. — Спасибо’.
Медведь продолжал чавкать под деревом. Все существо Юна зажглось от радостного голода и хищной жажды убийства.
Еще минута, и он двинулся бы к дереву отнимать у медведя горячее, истерзанное мясо.
Внезапно с левой стороны послышалось хорканье, странное, тревожное, похожее на скрип сырого дерева и на плач ребенка.
‘Теленок плачет… — подумал Юн. — Матку зовет…’
Он весь согнулся, сжал копье и быстрыми шагами стал пробираться на голос.
Хорканье повторилось левее, потом еще левее. Теленок не хотел уходить и описывал широкую дугу вокруг медведя и матери. Юн осторожно крался вперед. Глаза его горели, как у волка, ноги ступали бесшумно, как будто на пружинах.
Теленок опять хоркнул, и Юн увидал его. В свете луны он перебежал тропинку. Осторожность Юна была излишняя. Теленок был маленький, глупый. Он бежал вперед нетвердой рысцой, колеблясь между двумя инстинктами и двумя запахами. Один был знакомый запах матери, другой запах был крепкий и темный и внушал ему ужас, хотя он еще не понимал, что это было.
Юн выждал минуту и твердой рукой пустил копье. Длинное костяное острие, острое, как шило, вонзилось теленку в брюхо и вышло наружу с другой стороны.
Теленок сделал скачок в сторону, задел ногами за древко копья, споткнулся, упал, хотел встать и не мог. Юн в два прыжка перескочил пространство, отделявшее его от добычи. Он придавил теленка коленом, потом, видя что тот не перестает биться, достал из своего поясного мешка острый кремневый нож в чехле из дерева, искусно выдолбленном, и перерезал теленку горло. Он припал к ране воспаленными губами и стал тянуть сладкую, теплую кровь, и это освежило его. После того он поднял маленькую тушу и вскинул ее себе на плечи.
‘Матка с теленком, — думал он. — Матки идут’.
Оленье тело на его плечах было гибкое, теплое, как тело ребенка, и он вспомнил в этой связи своего белого Мышонка, который в это самое время, может быть, умирал с голоду в женском лагере.
Юн подхватил свое копье и быстрыми шагами направился на запад, слегка отклоняясь вправо к реке. Он не думал о медведе, который остался сзади и пожирал добычу, не думал также о становище своих братьев-охотников. Он направлялся к женскому стойбищу отнести своему голодному сыну первую добычу этой весны.
ГЛАВА 2
Женский лагерь помещался в лесистой лощине, доходившей до самого берега. Он не был похож на становище мужчин. В разных концах горели костры перед навесами, сплетенными из ветвей и поставленными так, чтобы давать защиту от ветра. Малые дети не могли оставаться без огня и без крова.
Женщины вообще работали больше мужчин, и работы их были разнообразнее. Они плели корзины из прутьев, лепили горшки из глины, шили детям платье из шкур и варили для них пищу у огня. Детские зубки нуждались в мягкой пище. Мужчины, напротив, презирали все эти ремесла и удобства. Пищу свою они жарили на камнях или пекли на угольях. Многие части мяса, хрящи, потроха они потребляли сырыми. Иные воины давали обет есть всю жизнь только сырое. Это считалось признаком мужества и закаленности. Занимались мужчины только войной и охотой. В остальное время они приводили в готовность свое боевое оружие или попросту спали, все равно — днем или ночью.
Весенний голод был для женского лагеря тяжелее, чем для мужского. Дети вообще были хлипкие, податливые к смерти. Они мерли, как мухи, — зимой от холода, а весной от голода. Женщины, кроме того, умели добывать пищу хуже мужчин. Они собирали съедобные корни и серых червей, ловили куропаток петлями. Но именно в это голодное время корни были жестки, а куропатки редки.
Женщины выражали голод иначе, чем мужчины. Мужчины терпели молча, — жаловаться считалось ниже их достоинства. Женщины кричали и бранились друг с другом и с собственными детьми. Иные пели, другие плакали, третьи вспоминали отсутствующих друзей, хотя это и считалось нарушением приличий. Особенно круто приходилось многодетным, но их было немного. Матери обычно кормили детей до пятилетнего возраста, рождения разделялись большими промежутками, и семьи были немногочисленны.
Всех круче приходилось Майре Глиняной, прозванной так за бескровный цвет лица. У нее была двойня, два шустрых мальчика по пятой зиме. Одного звали Антек, другого Лиас. Отцом Лиаса считался Лиас Большой из мужского лагеря, но он наотрез отказался от другого младенца, и после этого на праздниках любви уже не приближался к Майре. С тех пор Майра жила одна с детьми и не имела мужчины.
У нее уже не хватало молока для обоих младенцев. Она пробовала отлучать их от груди, но пищи тоже не хватало. Ее дети были самые голодные и неугомонные во всем стойбище. И теперь они теребили мать за пояс, справа и слева, и неотступно кричали ‘Дай, дай!..’
— Где я возьму? — кричала несчастная Майра.
— Дай!..
Дети карабкались на колени и тянулись к груди матери.
— Нету! — кричала Майра. — Отстаньте!
— Леший, — прибавляла она с угрозой, — возьми этих мальчиков. Они еду просят.
— Зачем родила двоих? — насмешливо сказала соседка Аса-Без-Зуба.
Она сидела на корточках у своего костра, закутав спину вытертой шкурой оленя. Соседки накануне поссорились из-за деревянного приспособления для вытирания огня. Женщины Анаков отличались в зрелом возрасте вспыльчивым и неукротимым нравом. Никакие бедствия или лишения не смягчали их охоты к ссорам.
Майра молчала. Она сделала вид, что не слышала слов соседки.
— Один от человека, другой от дьявола, — сказала Аса.
Двойни были редки в племени Анаков и, как все необычное, вызывали враждебное чувство.
— Оставь, — сказала старая Лото, которая сидела у того же огня и грела руки. — Лисица четырех приносит, и все настоящие…
Лиас залез на колени к матери и добрался-таки до ее груди. Он потянул губами сосок, но грудь была пуста, как опорожненный мешок.
Мальчик в ярости укусил зубами сосок. Майра взвизгнула от боли и одним движением отбросила сына в сторону. На грязной коже ее обвислой груди показалась рубиновая капля, медленно налилась и упала вниз, как кровавая слеза.
— Зарежу! — крикнула Майра. Но мальчик быстро пополз в сторону на четвереньках, как молодой лисенок. Он остановился на порядочном расстоянии и смотрел на мать тем же блестящим голодным взглядом.
Литта Златогривая сидела поодаль, не разводя огня. Она подостлала под себя свой меховой плащ, а ее золотистые волосы рассыпались по голым плечам и грели не хуже плаща.
Она сидела, уткнувшись локтями в колени, и пела монотонным напевом старую песню о золотых яблоках. Это была любимая песня женщин. Молодые девушки часто пели ее во время голода. Мужчины во время голода мечтали о мясе, свирепо и молча, как дикие звери. Женщины же охотнее вспоминали о ягодах, орехах и плодах, даже о таких, каких никогда не бывало в соседних лесах.
Золотые яблоки тоже не рождались в стране Анаков. По преданию, эти яблоки росли в счастливой стране Вияр, откуда пришли первые божественные люди, породившие племя Анаков.
Литта качалась, как пьяная, и пела тонким однообразным напевом:
| Я была в золотом лесу. Я рвала золотые яблоки. Сочные яблоки… Одно яблоко я взяла себе, Другое отдала своему другу, Сочные яблоки… |
Винда и Рея-Волчица, две молодые матери-сестры, сидели в стороне вместе со своими младенцами. У них тоже пропало молоко в грудях, и они поили младенцев белым раствором ‘земляного жира’ в воде. Это была съедобная глина, мягкая, белая и жирная на ощупь. В голодные дни дети Анаков поедали ее горстями. Они белели от нее, как будто посыпанные пеплом, щеки и грудь покрывались мучнистыми пятнами, глаза мутнели и теряли блеск. Анаки говорили, что дети от ‘земляного жира’ линяют, как тощая рыба.
Но в этой местности был редок даже съедобный жир земли. Его приносили с юга за полдня ходьбы. Там наплывал он белыми пятнами в горном ручье из-под нависшей полуразрушенной скалы.
Девочки-подростки копошились целой стаей у большого костра. Они были заняты важным делом: варили толкушу из древесной заболони. Дело это было медленное и трудное. Им распоряжались три подруги: Яррия, Ронта и Илеиль. Они были однолетки и в ближайшую осень должны были подвергнуться обряду благословения чрева, который для женщин соответствовал мужскому обряду посвящения и составлял признание брачной зрелости.
Впрочем, в настоящее время их фигуры не имели никаких признаков зрелости. У них были тощие плечи, костлявые спины. Они отличались от мальчиков только гривой спутанных длинных волос, висевших по плечам. У Яррии были черные волосы, у Илеиль каштановые, у Ронты золотистые, почти такие же, как у Литты златогривой. Все девочки были наги. Они должны были получить меховой плащ только осенью, как первый подарок возлюбленного.
Больше всех хлопотала Яррия. Она отдавала приказания направо и налево:
— Девки, торопитесь… Милка, дров тащи!.. Скорее!..
Милка, совсем маленькая смуглая девочка, топталась у костра и плакала от голода и нетерпения. Но при этом окрике она поспешно утерла слезы и побежала в лес.
— Элла где? — спрашивала Яррия вдогонку.
— Сестра? — переспросила Милка. — Под деревом сидит, — прибавила она на бегу. — Злая, страсть. Я ее позвала: ‘Пойдем к девкам’, а она схватила полено…
— Девки, торопитесь, — крикнула Милка в свою очередь. — Дров тащите!.. Скорее!..
Она повторила окрик Яррии точно таким же повелительным тоном, потом побежала вприпрыжку по узкой тропинке вниз за своими подругами. Иные из них уже возвращались к огнищу с охапками хвороста. И, несмотря на голод и слезы, им было весело. Вся эта затея походила на игру, и трудно было разобрать, настоящая она или не настоящая.
Ронта утвердила на земле странный сосуд, до половины налитый водою. Он держался на четырех палках, крепко врытых в землю и поддетых под его края. В сущности это был не сосуд, а мешок, сплетенный из корней. Но плетенка была такая частая и ровная, что вода держалась, и ни капли не вытекало.
С десяток девочек сидели на корточках и скоблили заболонь. Она была двух сортов: тополевая со стволов и ивовая с корней. Тополевая была надрана длинными белыми лентами и лежала на земле, собранная в кучу. Ивовая была разбросана кругом узкими спиральными завитками, похожими на змей или на крупных червей.
Яррия разрыла длинной палкой красные уголья. Под грудой жара лежали круглые камни, которые собственно и служили для варки. Ловко действуя двумя палками, как будто щипцами, Яррия доставала камни из костра и опускала их в котел. Вода скоро согрелась и задымилась от легкого пара. Потом стали выделяться крупные пузырьки, возвещавшие о близком кипении.
Ронта сидела, обхватив руками колени, и смотрела в огонь. Девочки с жадными лицами стояли кругом костра и дожидались, чтобы варево поспело.
Старших мальчиков не было в лагере. Они проводили целый день в лесу, рыскали взад-вперед, искали добычи.
Только горбатый Дило остался дома. Ноги у него были кривые, и он так ослабел от голода, что не мог бы угнаться за другими товарищами. Но утром, когда они уходили, он тоже ушел от костра сестры своей Пенны, по прозвищу Левша, и забрался в густой куст ольховника. Там, лежа на мху, он мало-помалу объедал горькие почки, как заяц.
Однако теплый смолистый запах толкуши дошел и до куста, забрался внутрь и стал щекотать ноздри Дило. И скоро он не смог удержаться, вылез из своего убежища и стал понемногу приближаться к костру девочек.
Илеиль в последний раз попробовала древесную похлебку.
— Готово, — сказала она. — Жрите, шакалки!..
Девочки бросились к плетеному котлу и стали засовывать в горячую воду свои грязные руки. Они обжигались и отскакивали назад, потом опять совали в котел руки и даже носы. Они, действительно, напоминали шакалов, которые в то время ходили следом за человеческими ордами и при удобном случае готовы были сунуть нос в горшок и даже в огонь. Люди то били их, то относились к ним благодушно и даже бросали им негодные куски.
Дило совсем приблизился к костру. Он тоже походил на шакала — больного и хромого. Милка, жадно поедавшая свою порцию, посмотрела на него и вдруг фыркнула от смеха. Она разбрызгала горячую жидкость во все стороны и чуть не подавилась, но потом справилась и промычала с полным ртом: ‘Мм… лягушонок!’
— Дайте мне тоже, — сказал Дило, протягивая руку.
Милка уже облизывала свои липкие пальцы.
— И девочкам не хватит, — сказала она. — Ты мальчик, иди птиц ловить.
— Чем же я мальчик? — жалобно сказал Горбун. — Я тоже девочка.
— Как девочка?! — хором запротестовала вся девичья гурьба.
— Если я сижу дома, то, значит, я девочка, — сказал Дило в виде аргумента.
— Врешь, — сказала Милка. — У тебя и нос не такой, — прибавила она со смехом.
— Яррия, — громко позвал Горбун, — дай мне хоть одну стружку!.. — Яррия не отвечала. Она скоблила ногтями внутренность плетеного котла. Твердые ногти звенели, как железо.
— Яррий кормил меня, — сказал Дило и вдруг заплакал. Плач его был, как кашель. Он прикрывал горстью рот и нос и лаял в ладонь странными звуками, как будто захлебываясь.
Яррий был брат Яррии. После минувшей зимы он перешел в мужскую орду вместе с тремя другими отроками и сейчас ожидал посвящения. Он был старше Яррии, но женская зрелость наступала раньше, чем мужская. Брат и сестра должны были пройти очистительные обряды в одно и то же время, после великих охот, перед осенним праздником солнца. Среди подростков Яррий славился охотничьей удачей, и даже имя у него было Яррий Ловец. В самое трудное время он всегда приносил что-нибудь — кролика или сову, связку рыб, пойманных острым шипом уды в водах Даданы, змею, сурка. Яррий Ловец в голодную вешнюю пору кормил Горбуна. В сытные летние дни Дило, несмотря на кривые ноги, не отставал от товарища. Они переходили с поля на поле, от перелеска к другому перелеску в поисках добычи.
Дило, несмотря на свое уродство, был мастер на все руки. Он плел из крапивы частые сети для ловли золотоперок в ручьях, делал дудочки из тростника и выманивал, подсвистывая на этой первобытной свирели, робких пищух из нор в песке. Он умел также рассказывать длинные сказки, которые никогда не кончались и переплетались, как кружево: то уходили на небо к Отцу и его звездному племени, то спускались в подземные пещеры, где таился после ущерба луны страшный бог, Лунный Дракон, или убегали в далекие степи, туда, где живут странные боги Молокоеды, у которых лица людские, а копыта конские. Они скачут повсюду вслед за стадами скота и, дивное дело, сосут молоко, как телята.
— Яррий кормил меня, — повторил Дило упавшим голосом.
Ронта поспешно вынула изо рта собственную жвачку и сжала ее в горсти. Это был ее последний глоток.
— Иди, — сказала она мальчику, — во имя Яррия…
Дило быстро подполз, положил ей голову на колени, закрыл глаза и открыл рот. И она вложила ему свой кусок, как матка баклана вкладывает жвачку голодному птенцу. Она отдала ему не только собственную пищу, но соки собственного рта. Мальчик удержал ее руку и стал тщательно облизывать ладонь. Он не желал терять ни единой питательной капли, или, быть может, благодарил ее, как благодарят ручные звери за ласку.
На другом конце лагеря собрались младшие мальчики, которые были слишком малы для лесного промысла. Но даже эти малыши были настроены более хищно, чем девочки. Они обступили со всех сторон своего товарища Рума.
— Дай! — кричали они сердито и назойливо. В голодные дни этот детский крик раздавался на стойбище с утра до вечера.
— Дай! — кричали мальчики и наступали на Рума.
Рум прижимал к груди желтоватого щеночка шакальей породы. У щеночка была острая мордочка, и черные глазки его бегали по сторонам. Он, по-видимому, хорошо сознавал опасность своего положения.
Дети нередко подбирали и выкармливали щенят, лисенят, молодых зайчат, даже воронят и гусенят, но все эти питомцы быстро вырастали и уходили на волю или попадали под нож. Держать взрослых зверей в полуголодном лагере было бы слишком накладно.
Но шакалий щеночек Рума был особенный. Он совсем не рос. Уже два раза он зимовал в лагере и остался таким же, как прежде.
В сущности, это был не щенок, а взрослый шакал-карлик. Он был совсем ручной и никуда не хотел уходить: должно быть, понимал, что слишком мал и беззащитен, чтобы жить на воле. Его могли бы съесть собственные, более крупные братья. Зато Рум очень любил его и называл тоже Румом. Они спали вместе, и мальчик делил с ним последний кусок. И даже в эти голодные дни ребра младшего Рума-шакала выдавались меньше, чем у его двуногого тезки.
— Дай! — кричали малыши. — Убьем!..
Они хотели съесть четвероногого Рума. По закону Анаков, в голодные дни никакая живность в лагере или вне его не избавлялась от ножа, даже рогатые змеи, которые в обычное время считались священными и получали жертвы.
Лиас и Антек тоже были здесь. Они бросили мать, от которой ничем нельзя было поживиться, и вместе с другими наступали на обоих Румов.
— Дай! — кричал Лиас.
Он схватил камешек и бросил его в голову Старшему Руму. Но рука Лиаса была еще не верна. Камень попал в голову Руму Младшему, желтоватому шакалу. Шакал жалобно взвизгнул. Рум старший тоже взвизгнул. Потом глаза его загорелись зеленым светом, как у рыси. Он бросил на землю своего мохнатого друга, схватил из костра головню и кинулся на обидчика.
Зубы его оскалились, спутанные волосы на голове встали дыбом. Озадаченные мальчишки отступили. Рум швырнул головню, подхватил шакала на руки и бросился вон из лагеря по тропинке, ведущей в лес.
Мальчики тотчас же опомнились и бросились было вслед за ним с гиканьем и свистом, но в это время на тропинке показалась новая фигура. Это была высокая девушка, темноволосая, в плаще из волчьей шкуры. Она шла, опираясь на длинное копье, и несла на плече большую бурую птицу, крылья которой волочились по земле. В руке она держала светло-серого зайца. Это была Высокая Дина, охотница женского лагеря. Она принесла соплеменницам охотничью добычу.
Младшие мальчики обступили охотницу, дергали ее за плащ, хватали за перья орла. Девочки тоже сбежались со всех сторон, как белки.
— У орла отняла, — сказала Илеиль, указывая на зайца. Его левый бок был наполовину истерзан чьими-то глубокими и острыми когтями.
— И орла принесла, — сказала Яррия с явным восхищением. — Этого и Яррий не сможет, — прибавила она, подмигивая Ронте. — Чем ты его убила, Дина?
— П л о с к и м д е р е в о м, — сказала охотница, указывая на свой пояс. За поясом было заткнуто изогнутое орудие из легкого и твердого дерева. Охотники Анаков метали его в воздух, убивая летевших мимо птиц. Но подбить этим куском дерева огромного орла да еще с добычей, — таким броском мог похвалиться не каждый охотник.
Охотница Дина не была похожа на других женщин племени. Начать с того, что она до сих пор не выбрала себе мужа, хотя уже три осени тому назад женщины благословили ее на брак. Она не уклонялась от праздника и плясала вместе со всеми кругом травяного колеса, пела и ела с мужчинами, но ни один не мог похвалиться тем, что осуществил над ней пылкое обещание брачного гимна:
| Я сожму твои груди, Как спелые ягоды. |
Дина была очень красива. Ее зрелая красота затмевала младших подруг и рядом с женами соблазняла, как невиданный плод. Тело у ней было гладкое, без единой складки. И груди были, как те золотые яблоки, о которых пела старинная песня.
Мужчины сражались за Дину, раздирали друг друга когтями, как дикие звери, но в последнюю минуту она уклонялась и убегала со смехом.
Дина жила по-своему и от мужчин ничего не принимала ни в дар, ни в обмен. Каждую осень ей предлагали лучшие шкуры на плащ, но она отвергала их с презрением, не желая платить любовью. И все же, противно обычаю, неприступная дева носила пышный плащ новобрачной. Этот плащ не был принят из рук мужчины. Дина добыла его минувшей зимою собственным копьем и содрала собственным ножом с еще трепетавшего тела матерого волка.
Такова была охотница Дина, ненавистница мужей.
Она остановилась у первого костра и сбросила на землю свою двойную добычу.
— Ого! — крикнула она звучным голосом. — Малых кормить…
Дина ненавидела мужчин, но очень любила детей. Она свято соблюдала древний обычай, который повелевает в голодные дни отдавать первую добычу малышам, кроме охотничьей доли, вторую — беременным женам и матерям с грудными младенцами, третью — подросткам, и только четвертую — взрослым. Она сама кормила ребятишек и часто отказывалась в их пользу от своей законной охотничьей доли.

![[]](https://electronic-library.ru/wp-content/uploads/2023/05/jertv011_.gif)