За кадром
За кадром
* * *
* * *
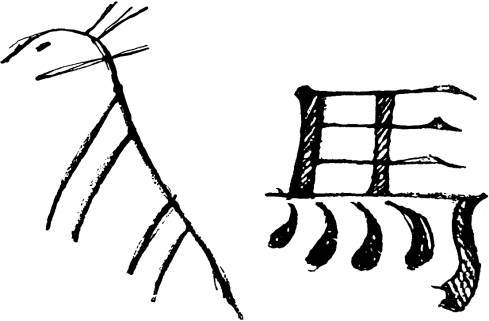
Рис. 1
* * *
* * *
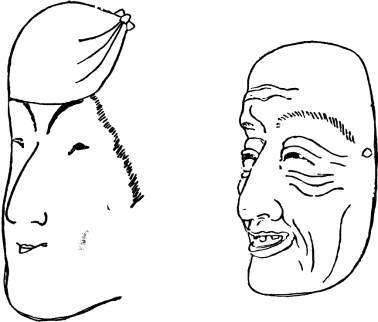
Рис. 2
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
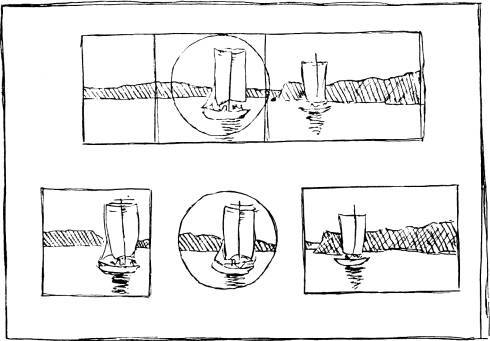
Рис. 3
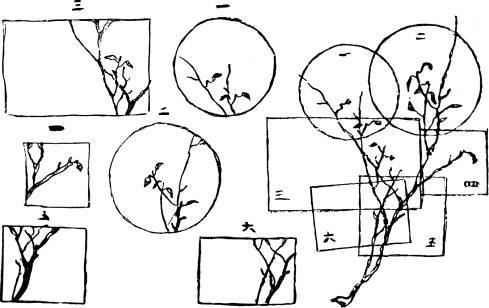
Рис. 4
1929
Комментарии
Комментарии
——
За кадром
* * *
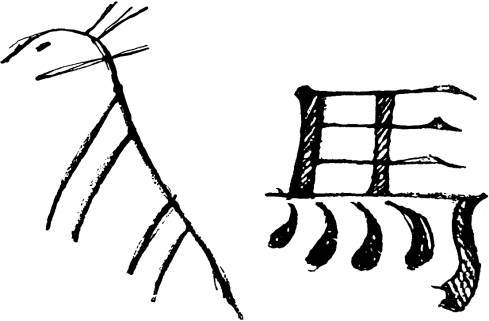
Рис. 1
* * *
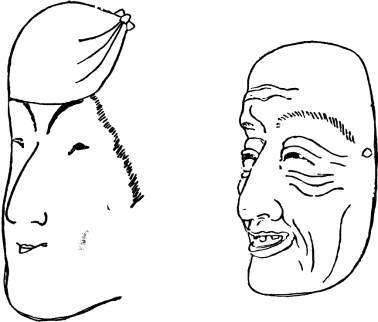
Рис. 2
* * *
* * *
* * *
* * *
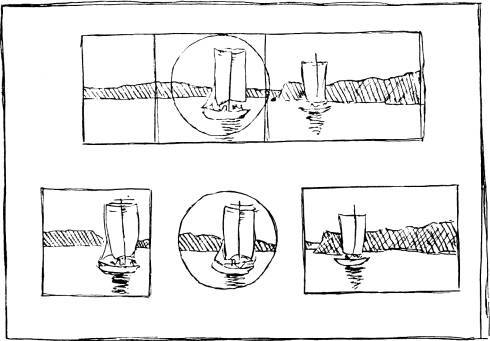
Рис. 3
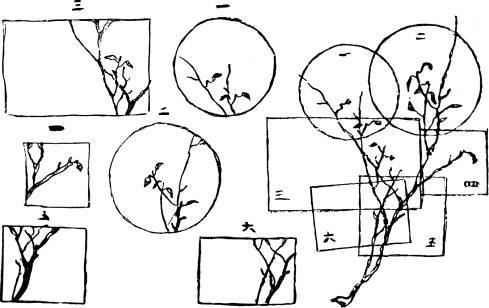
Рис. 4
1929
Комментарии
——