Исаак Григорьевич Гольдберг
Исаак Григорьевич Гольдберг
Трое и сын
Трое и сын
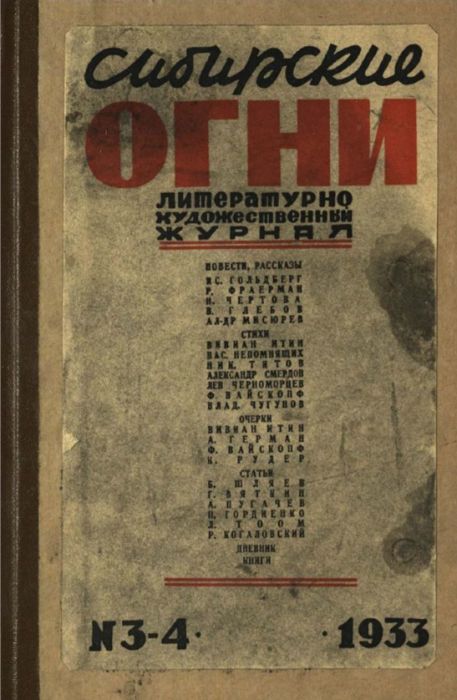
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
