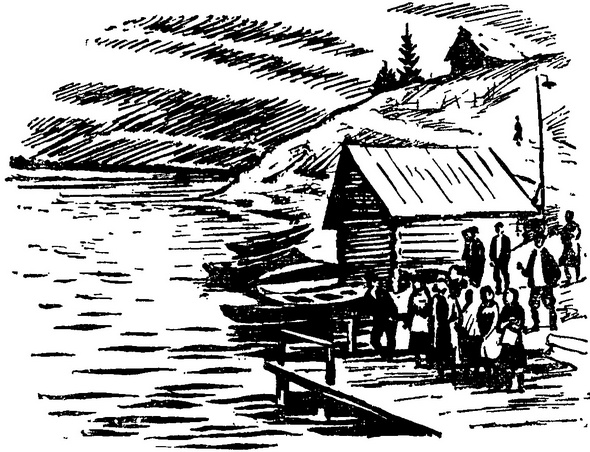Александр Евсеевич Рекемчук
Александр Евсеевич Рекемчук
Избранные произведения в двух томах. Том 2
Избранные произведения в двух томах. Том 2
Скудный материк
Скудный материк

Глава первая
Глава первая
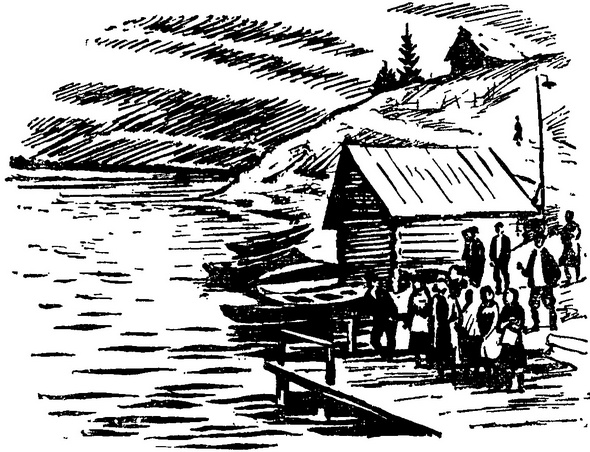
Александр Евсеевич Рекемчук
Избранные произведения в двух томах. Том 2
Скудный материк

Глава первая