Михаил Козырев.
Подземные воды
Михаил Козырев.
Подземные воды
Кооперативное Издательство Писателей
‘Никитинские субботники’
Москва
1928
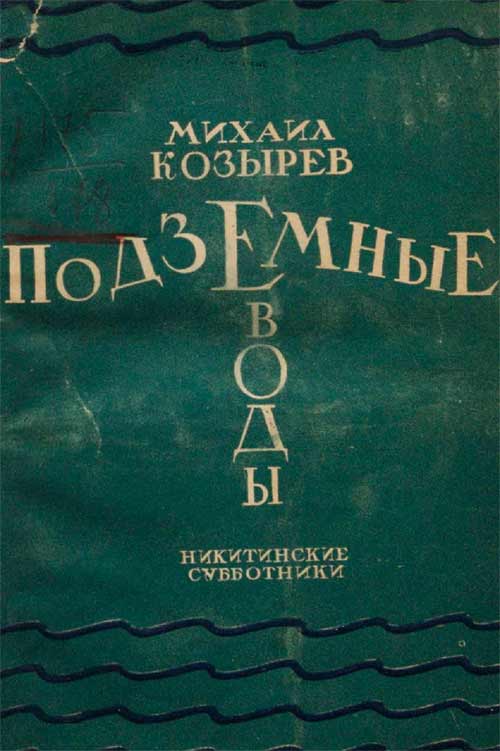
Часть первая
Часть первая
I
I
Веселый разговор…
Народная песня.
II
II
— Мы с вами попутчики, кажется?
М. Лермонтов.
III
III
О, дружба, да вечно пылаем
Огнем мы бессмертным твоим!
А. Дельвиг.
