Павел Николаевич Сурожский
Павел Николаевич Сурожский
Под грозой
Под грозой
Повесть.
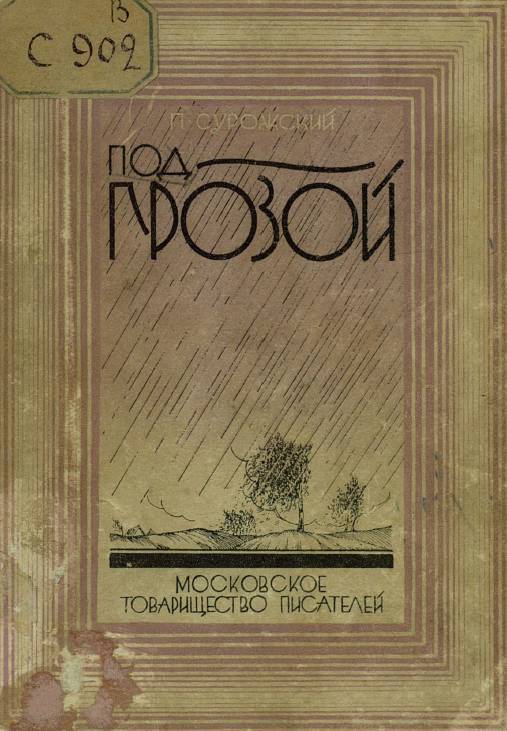
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Павел Николаевич Сурожский
Под грозой
Повесть.
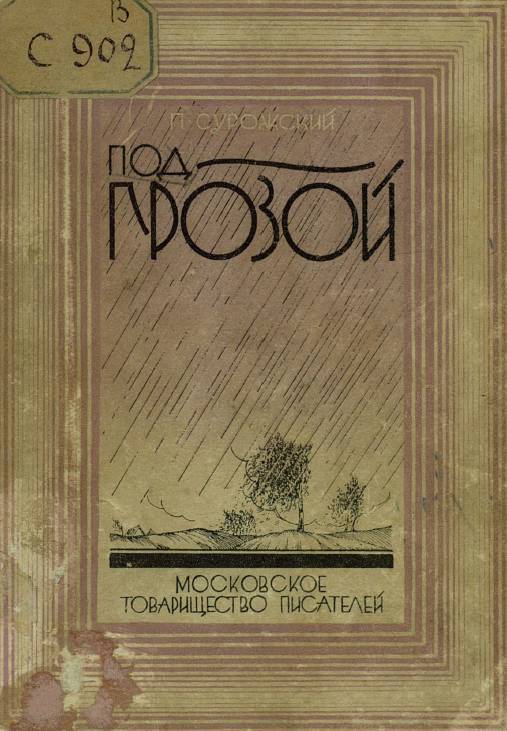
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.