1
Л. Н. КОТЛЯРЕВСКОЙ
1
Л. Н. КОТЛЯРЕВСКОЙ
[1838—1839]
2
А. Ф. РАЕВУ
2
А. Ф. РАЕВУ
3 февраля 1844 г.
3
РОДНЫМ
3
РОДНЫМ
[19 мая 1846 г.]
Сын Ваш Николай.
19 мая 1846 г., воскресенье, в 2 часа пополудни.
x = 1800 — 43,
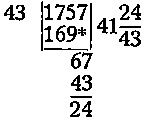
41 24/43 дня или 5 недель 6 дней и около 11 1/2 часов. {При помножении 43 на 4, единицы помножены по ошибке на 3. — Ред.}
4
Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
4
Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
Понедельник 20 мая [1846 г.]. Аткарск.
5
РОДНЫМ
5
РОДНЫМ
Ольшанка. 22 мая, среда, 8 1/2 ч. у. [1846 г.]
Сын Ваш Николай Ч.
6
РОДНЫМ
6
РОДНЫМ
Балашов, 23 мая [1846 г.]
Сын Ваш Николай.
Брат ваш Николай Ч.
Брат твой Николай Ч.
7
А. Н. ПЫПИНУ
7
А. Н. ПЫПИНУ
[30 мая 1846 г.]
8
РОДНЫМ
8
РОДНЫМ
Воронеж. 1 июня, суббота, 1846 г.
9
РОДНЫМ
9
РОДНЫМ
[Москва, 12 июня 1846 г.]
Москва. 12 июня, 8 ч. утра.
10
Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
10
Г. И. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
Москва, 14 июня [1846 г.], 2 часа пополудни.
Москва, июня 15 [1846 г.] (суббота) 8 час. утра.
