Сергей Заяицкий.
Найденная
Сергей Заяицкий.
Найденная
Повесть
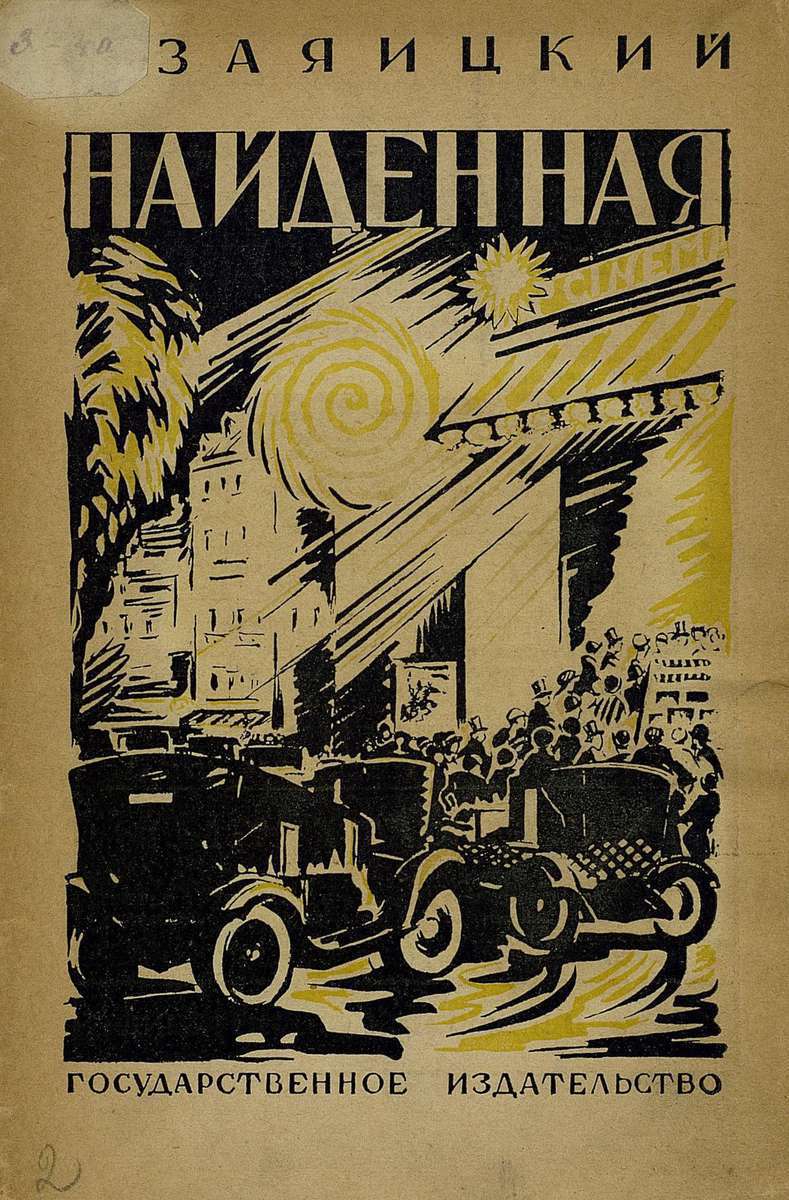
![[]](https://electronic-library.ru/wp-content/uploads/2023/05/text_1927_naydennaya-2.png)
I. ‘Красный витязь‘
I. ‘Красный витязь‘
* * *
* * *
* * *
* * *
II. ‘Маруся‘
II. ‘Маруся‘
III. Большевик
III. Большевик
Сергей Заяицкий.
Найденная
Повесть
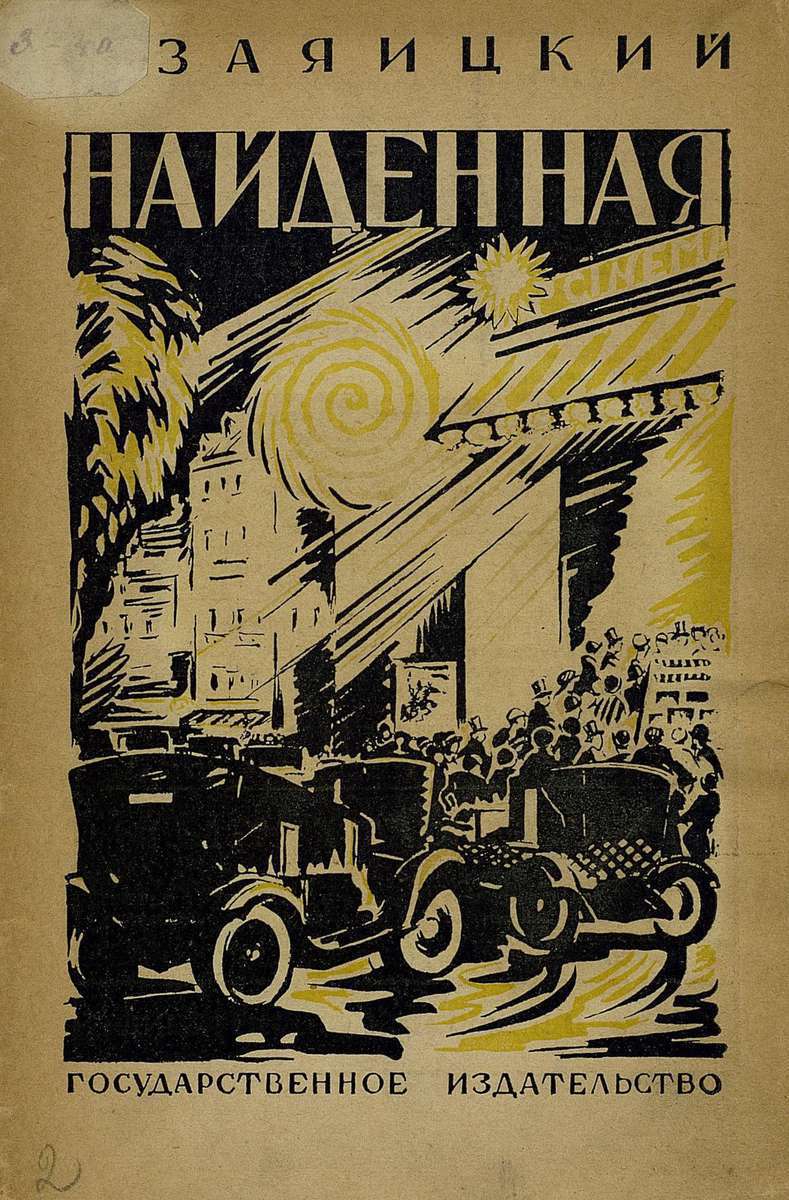
![[]](https://electronic-library.ru/wp-content/uploads/2023/05/text_1927_naydennaya-2.png)
I. ‘Красный витязь‘
* * *
* * *
II. ‘Маруся‘
III. Большевик