Васнецов А. М.
Грозы и дети.
Грозы и дети.
Рассказ.
I.
I.
Супостат.
Супостат.

II.
II.
Планида.
Планида.
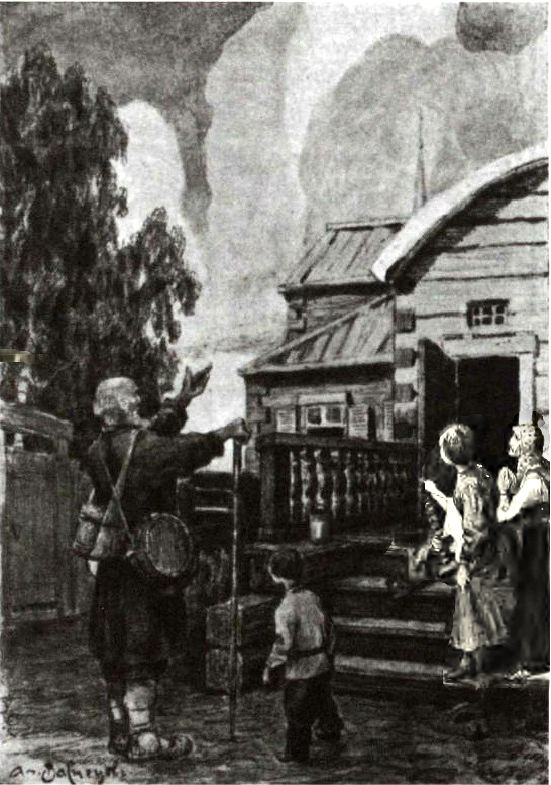
III.
III.
Полуночный вихрь.
Полуночный вихрь.

Васнецов А. М.
Грозы и дети.
Рассказ.
I.
Супостат.

II.
Планида.
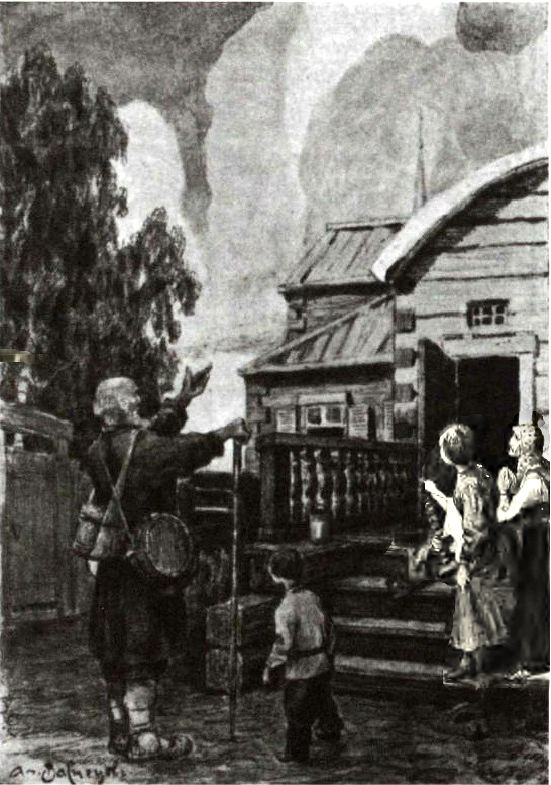
III.
Полуночный вихрь.
