Я. Тугенхольдъ
С.-Петербургъ
Книгоиздат. т-во ‘Просвщеніе’ Забалканскій просп., соб. д. No 75
Типо-лит. Акц. О-ва ‘Самообразованіе’. Забалканскій пр., д. No 75.
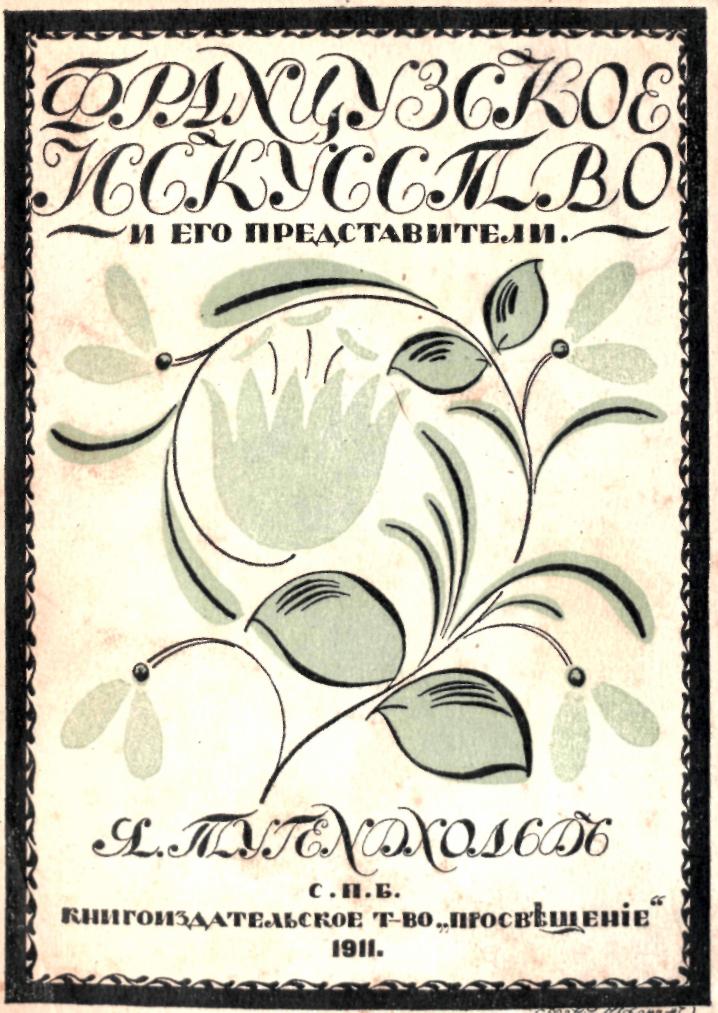
Предисловіе.
Оглавленіе.
Послднія теченія французской живописи.
Прекрасное всегда странно, но не все странное прекрасно.
Ш. Бодлэръ.
Очеркъ первый.
Очеркъ первый.
Первое достоинство всякой картины — быть праздникомъ для глазъ.
Делакруа.
I.
II.

