Эрнст Теодор Амедей Гофман
Двойники
Эрнст Теодор Амедей Гофман
Двойники
Die Doppeltgnger
Перевод Вячеслава Иванова
Рисунки А. Я. Головина
Петрополис
1922


Отпечатано в ознаменование столетней годовщины со дня смерти Э. Т. А. Гофмана в количестве одной тысячи нумерованных экземпляров в 15-й гос. тип., под наблюдением В. И. Анисимова, из них 25 раскрашенных от руки и 100 с римской нумерацией в продажу не поступают
Экземпляр No 678

Глава первая
Глава первая

Глава вторая
Глава вторая
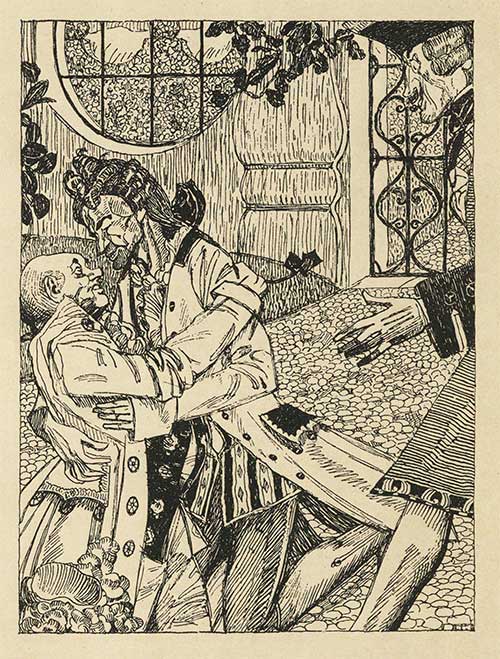
Глава третья
Глава третья

