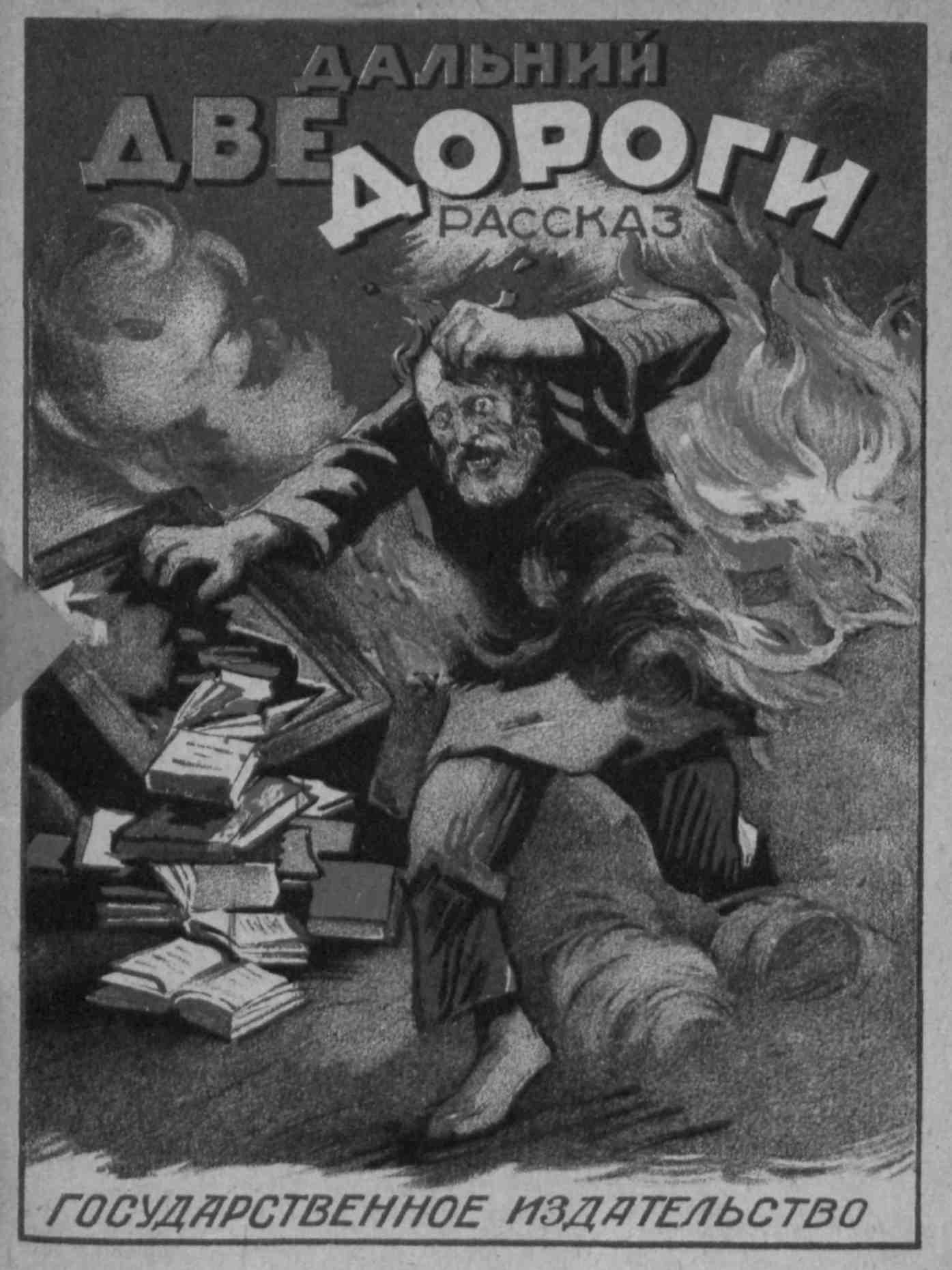
ДАЛЬНИЙ
ДАЛЬНИЙ
ДВЕ ДОРОГИ
ДВЕ ДОРОГИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА * 1928 * ЛЕНИНГРАД
ОГЛАВЛЕНИЕ.
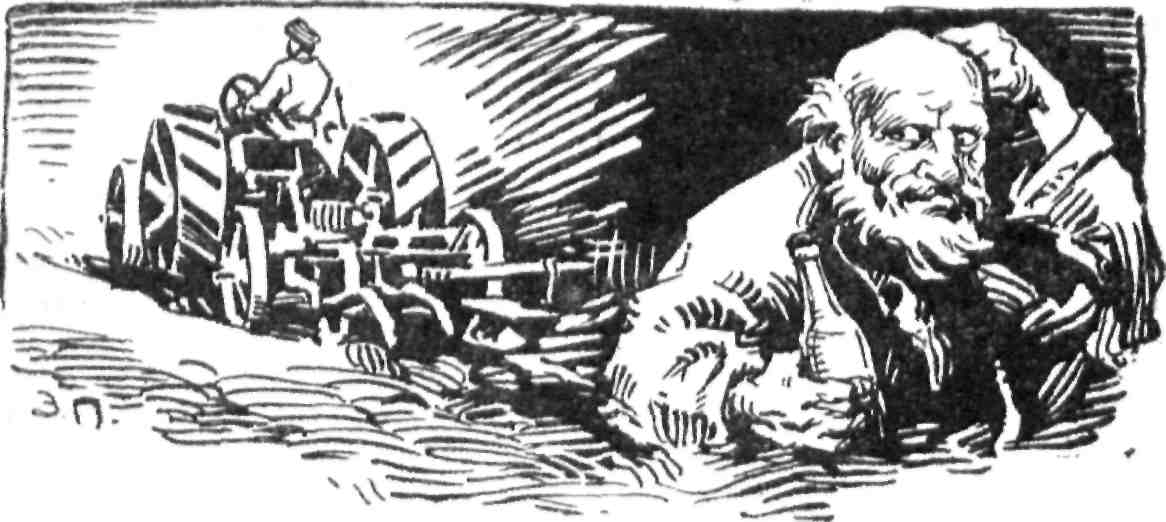
ТЕМНОЕ.
ТЕМНОЕ.
ПОХМЕЛЬЕ.
ПОХМЕЛЬЕ.
МОЛОДЕЖЬ ЗА РАБОТОЙ.
МОЛОДЕЖЬ ЗА РАБОТОЙ.
ЗВЕРИНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ.
ЗВЕРИНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ.
ВОТ ГДЕ РАДОСТЬ.
ВОТ ГДЕ РАДОСТЬ.
