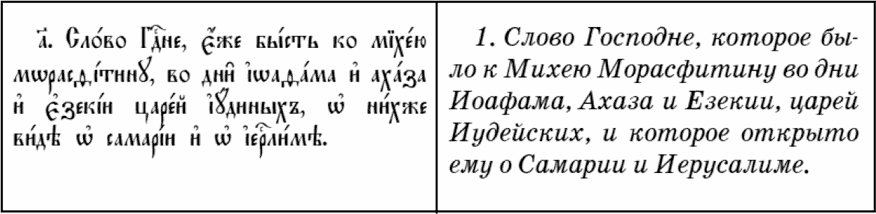митрополит Антоний (Храповицкий)
митрополит Антоний (Храповицкий)
Библейская эгзегетика и богословие толкование на книгу пророка Михея1
Библейская эгзегетика и богословие толкование на книгу пророка Михея1
ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
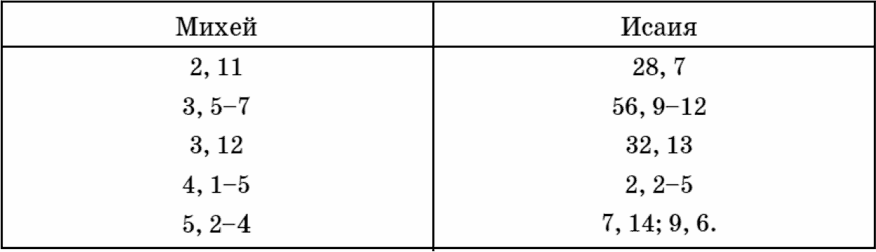
Глава I
Глава I